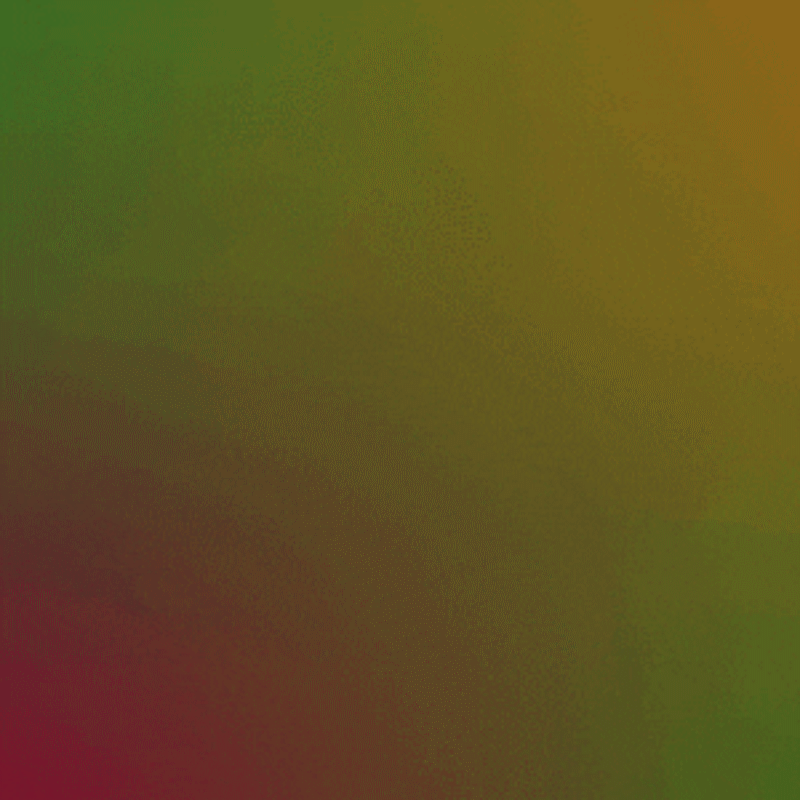
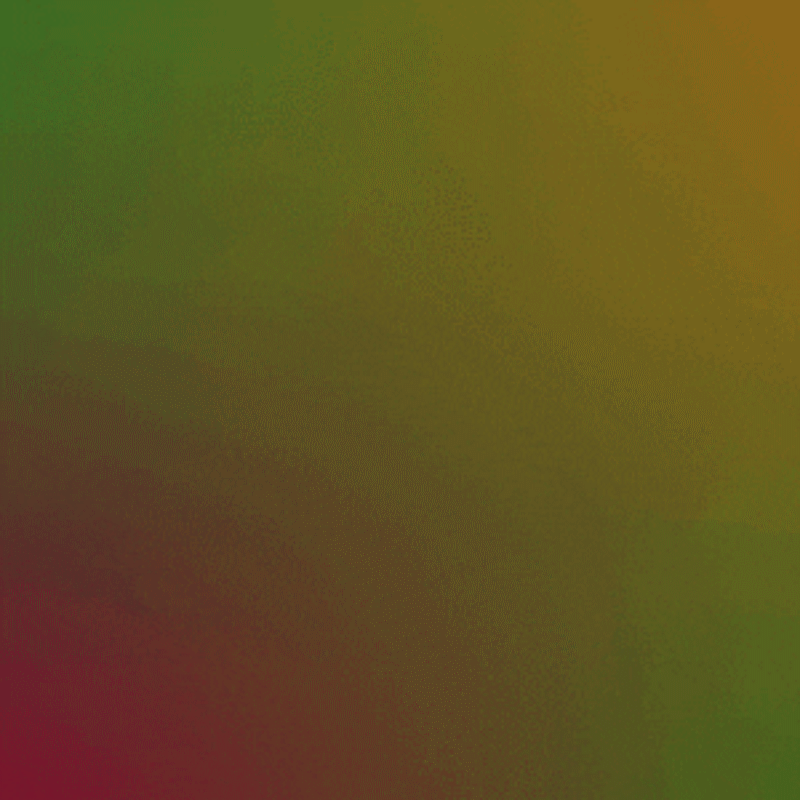
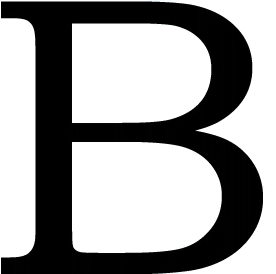 иктор Хлебников, напечатав в «Весне» первый свой рассказ
иктор Хлебников, напечатав в «Весне» первый свой рассказ Слова ‘футурист’ тогда — это было в начале 1909 года — ещё не существовало. Зато только что родилось хлебниковское слово будетлянин (будущник). Уже бескрылый, серый натурализм Боборыкиных, Потаповых, Мельшиных2![]()
![]()
![]()
![]()
Новаторы спорили о том, кто “свои” и кто “чужие”. Чехова называли своим и символисты, так как он печатал свои рассказы в сборниках московских символистов «Северные цветы»,6![]()
Последователь Чехова — Куприн погряз в пьянстве. Бунина заедал “бытовизм”, Леонид Андреев гремел, как новатор — он пил воду из всех “модернистских” колодцев, но никаких “измов” не признавал.
Бальмонт и Брюсов, самодовольно причислившие себя к “академистам-классикам”, грызлись между собой “из-за первого места на Парнасе”. И добровольный поддужный Брюсова, “критик-импрессионист” Корней Чуковский, прославляя Брюсова, в то же время разносил в брюсовском журнале «Весы» Бальмонта за “вольный” перевод «Побегов травы» Уитмена...7![]()
Корифеи грызлись, призывая в свидетели вечность и „Додневный Хаос” с большой буквы, а литературные церберы набрасывались то на одного, то на другого, — в зависимости от собственной, церберской выгоды.
Социал-демократы заговорили о литературном распаде и о разрушении личности (статья Горького «Разрушение личности» в сборнике «Литературный распад»), и даже правоверные символисты — Сологуб с Мережковским, Александр Блок с Зинаидой Гиппиус и Андреем Белым — нашли необходимым поднимать вопросы о народе и интеллигенции, о богоборчестве и богостроительстве, о героях и толпе. Все помешались на исканиях Нового слова и Нового града.
А хитроумный Кульбин твердил своё: толпа может низвергнуть старых кумиров и возвеличить новых, может разрушить старые алтари и возвести невиданные башни, но духовно обогатить мир она не может: это удел гениев-одиночек — пророков-поэтов, одержимых “извечным символизмом”, обладающих “магнетизмом души”. Такими благодетелями человечества были Гомер, Вергилий, Данте, Шекспир, Гёте, Пушкин, Достоевский... И таким будет Хлебников, потому что в нём есть “сомнамбулизм”.
Хлебников как будто пропускал всё это мимо ушей, но слово ‘сомнамбулизм’, при всём отвращении его к иностранным словам, запомнил надолго. Он говорил:
— Сомнамбулы, попросту говоря, то есть одержимые, ходят как бы во сне, по краю пропасти и видят нездешние миры... Но стоит какому-нибудь дураку вдруг окликнуть, одёрнуть их, и они стремглав срываются вниз... и гибнут!.. и так далее. Это мне нравится!.. Возможно, и я хожу по краю крыши... и сорвусь, то есть чуть только услышу окрик дураков... и тому подобное. Но пока я вижу прекрасные нездешние миры... и ничуть мне не страшно.
Так и вышло: поэта сгубили не дураки, а родные. Первый окрик Виктор Хлебников получил в письме от своего отца — мелкого астраханского службиста, обременённого большой семьёй. Отец сначала аккуратно вносил обычную плату в Петербургский университет, где Виктор который уже год числился студентом,8![]()
Виктор Хлебников очутился на мели. Он с каким-то азартом бросился в романтические похождения и вообще в заумь.
Аркадий Бухов, Борис Богомолов и я,9![]()
Но заработок оказался мифом. За рассказ «Исповедь грешника» ему не заплатили ни копейки. Более того: он, кажется, сам заплатил что-то за напечатанный в журнале рассказ (это был жульнический приём редактора-издателя Шебуева,10![]()
Виктор крепился и никому не жаловался. Он безумно любил цветы, необычные побрякушки и потрёпанный свой студенческий плащ носил, словно мантию короля.
„Необычное нравится женщинам”,— говорил он.
А женщины сводили его с ума. И он при встрече с нами бормотал, что влюблён сразу в трёх женщин-красавиц и ещё в трёх девушек-гимназисток, тоже красавиц. А в невесты выбрал себе только одну девушку с синими глазами, жгучую брюнетку, да, чёрт возьми, вот беда — имя её ему неизвестно. Когда же кто-нибудь из собеседников, как бы невзначай, напоминал Хлебникову, что для того, чтобы выбрать себе красивую невесту и жениться на ней, нужно иметь много денег, — он презрительно выпячивал губы и отвечал скороговоркой:
Тут, положим, он добавлял: рассчитывать на внимание мещанок „поэту поэтов, королю времени и председателю земного шара” (титулы, присвоенные себе Хлебниковым в бреду будетлянской “зауми”) — конечно, не приходится, а всё-таки, много лет спустя, женщины узнáют, что среди них жил гений, Велимир (не латинское имя Виктор, а славянское — Велимир, тоже заумь), да ничего, кроме насмешек и издевательств, от них гений не видел. И, может быть, пожалеют о том пустые эти женщины, да будет поздно.
Пушкин, Тютчев, даже Достоевский были счастливцами, так как женщины боготворили их при жизни, а Гоголь и Шевченко так и погибли, не встретив за всю жизнь ни одной благосклонной женской улыбки, а ведь из-за такой улыбки возвышаются и гибнут не только творцы, но целые миры и царства! И, возможно, недалёк тот год, когда погибнет и Россия, так как что же мы тут видим? На Кульбиных и Хлебниковых ничтожные мещанки плюют, а какого-то, скажем, проходимца Распутина носят на руках!.. Но то — тайны царскосельского двора, чёрт с ними! А вот „прогрессивный дворик не мешало бы подмести”. “Прогрессивные” аскеты-дыромоляи заставляли Чехова плясать под свою дудку, прокляли его за обход “революционных мотивов”, а потом и совсем вогнали в гроб. Льва Толстого захламили вместо того, чтобы окружить старика-мудреца восторженной молодёжью, солнечным светом и цветами, — зажали в Яснополянский склеп, где его терзает свора родственников и дыромоляи-толстовцы. Молодого Горького сначала избрали академиком, а потом закричали о его конце. Но, положим, Горький — сам дыромоляй; “товарищи” обеспечили его на всю жизнь, хотя, может быть, со временем они же его и угробят. „Всё равно, — это Распутин наоборот”, — заключал Велимир.
А что делают с магическим реалистом Фёдором Сологубом, с Вячеславом Ивановым, поэтом, мудрецом и основателем «Академии стиха»?12![]()
![]()
![]()
Так бормотал Хлебников.
— А что такое будетлянин? — спрашивали мы его.
— Тот, кто смотрит в будущее...— отвечал он, — кто творит из ничего. Первыми будетлянами были всё те же старые русские титаны — не Мельшины, не Боборыкины, не Чириковы,15![]()
Всё это Хлебников произносил суматошно и невнятно, перескакивая с одного предмета на другой и добавляя, кстати и некстати, „так далее и тому подобное”. Стоило кому-нибудь из слушателей прервать его, переспросить или усомниться в “непререкаемости” его доводов, как он немедленно умолкал и, застёгивая несуществующие пуговицы своего пиджака, торопился куда-то бежать.
Аркадий Бухов, поэт и критик закрытой «Весны», склонный к дыромоляйству, неизменно подтрунивал над Хлебниковым; к отрицательным его характеристикам натуралистов относился несколько недоверчиво и юмористически, а за своего кумира, Якубовича-Мельшина, готов был лезть в драку. И так как дыромоляйство Бухова не встречало поддержки только у меня, то Хлебников хватал меня за рукав и тащил за собой, бормоча себе под нос:
— Идёмте! Никто нас не хочет понимать... а я предчувствую, что в течение ближайших десяти лет произойдут мировые катаклизмы... и гибель богов... И так далее... Я всех об этом предупреждаю, а надо мной смеются! Что за балдаватый народ — эти дыромоляи! Сами лезут в яму и других тащат... Мне жить не очень долго, самое большее — десять-пятнадцать лет. Но я хотел бы, чтоб это были годы творчества, солнечных женских улыбок, цветов... И так далее... Идёмте сейчас к Василию Каменскому...16![]()
И, размахивая руками и пряча голову в воротник, он, ни с кем не прощаясь, зашагал прямо к мосту через Фонтанку, в Гагаринский переулок, где жил Каменский, недавно возвратившийся из Перми. Я за Хлебниковым едва поспевал идти, а он, не заботясь о том, слушают его или нет, продолжал бормотать:
— Я понимаю йогов, которые достигают Нирваны путем самоотречения, самоуглубления и блаженного слияния с брахманом — невоплощённым божеством. И так далее... Но для поэтов Нирвана — смертным поэтам нужна музыка, страсть, незакатный свет солнца... полёт и цветы, и много песен! И вдохновенный труд! А не идиотическая работа. Сказано недаром: работа дураков любит. Я — за страсть!
— А у вас есть... страсть? — спрашиваю я осторожно.
— Безумная!.. — отвечает Хлебников. — Но как только температура достигает сорока градусов, я делаюсь кроликом... и бегу от женщины... А женщины любят кентавров... И боятся их, и любят! И так далее. А поэтов презирают... Пошлые мещанки!
— Так будьте кентавром!
— Ну, это дело деликатное... Я, положим, не трус, я, так сказать, монах... Таким был, по-моему, и Гоголь. Оттого и сгорел... И я — сгорю... Неврастения, и тому подобное... Безденежье нас заедает...
— Да, все женщины любят деньги.
— Хулиганов они любят, шофёров и лётчиков! И чёрт с ними. Хотя, Василий Розанов прав: без страсти нет творчества. И так далее... Но я люблю трёх женщин и ‹нрзб.› одну невесту... А что толку?.. Я их ‹нрзб.› совсем!
На квартире Каменского Хлебников, сняв свой плащ и ни с кем не здороваясь, молча уселся по-турецки прямо на паркетном полу, подозвал к себе сынишку хозяйки Витю, мальчика лет пяти, и, завладев его кубиками, соорудил замысловатую какую-то башенку. Хозяйка, Августа Викторовна, жена Каменского, глядя на Хлебникова, сокрушалась с напускным негодованием:
— Два Витьки — пятилетний и двадцатипятилетний! Ну, что мне с вами делать? Кормить вас манной кашей с ложечки? И, наконец, это же, во всяком случае, негигиенично — ползать на полу. Вы, двадцатипятилетний Виктор! Хоть бы постыдились женщины!
Двадцатипятилетний Виктор, сложив губы трубочкой, усиленно фукал на свою башенку, стараясь сдуть верхний кубик, а на окрик хозяйки не обращал никакого внимания. Та, отскочив, бросилась на колени к своему „Сюрке”, то есть к мужу, Василию Каменскому. И, в запальчивости, запричитала:
— Ох уж эти мне поэты! Пропащий народ!.. Презирают нас, женщин, за то, что мы их учим жить! Ну что с вами делать, голоштанники вы несчастные?! Вы даже на хлеб не можете себе заработать! Нет, Сюрка, я с тобой разведусь! Ползай себе тогда на манер Хлебникова, по полу, а хоть и по мостовой! Не пожалею.
Василий Каменский лепетал смущённо:
— Ты, Ая, — моя первая любовь... А на Виктора Хлебникова не сердись. Он такой... инфантильный...
— Первая, последняя!.. — возмущалась хозяйка, — Все вы инфантильные... бабники! Разженюсь, Сюрка.
До женитьбы Каменский изучал агронауку, числясь студентом Сельскохозяйственного института в Питере, носил смазные сапоги и ярко-красную бороду лопатой. А после женитьбы забросил институт, сбрил усы и бороду, облачился в бархатный костюм, напялил сногсшибательный галстук бантом а-ля Кузьма Прутков и забредил стихами.
А вскоре потом сделался лётчиком.
Гораздо позже (кажется, уже после Октябрьской революции) он издавал «Мой журнал», где “держал экзамен на гения”, но по всему провалился. А всё же был он, безусловно, талантливый поэт.
Так вот, сейчас Каменский ожидал скрипача М.В. Матюшина с женой Еленой Гуро и некоторыми другими “садоксудейцами”,17![]()
Вскоре М.В. Матюшин пришёл. И в сопровождении скрипки-альта Тамары М. под аккомпанемент пианиста Мясоедова18![]()
— Радонеж!.. Веселож!.. Бехож! Восторгож!..
Тогда раззадоренный Мясоедов с места в карьер прочёл неожиданно залпом — свой прозаический «Опус», написанный “под Чехова” и предназначенный для «Садка судей», и тут Хлебников вдруг подхватился, заметался по комнате и взвыл:
— Хлябомятствуют!.. Невтерпёж!..
Мясоедова это задело за живое, и он немедленно, собрав свои рукописи и нахлобучив фуражку, покинул вместе со своей подругой Тамарой М. квартиру Каменского. Удалился за ними и М.В. Матюшин.
Каменский набросился на Хлебникова.
— Ты чего, Витя, крутишься тут как анатема, разогнал моих гостей! Даже твои друзья Матюшин и Бурлюки ушли.
— А я, выходит, не гость? — обиделся Витя.— Вот она, купецкая закваска! Ухожу! Идёмте, Карпыч, — обратился он вдруг ко мне.— Постучимся, скажем, к Зинаиде Николаевне... Она одна из трёх женщин, в которых я влюблён... И так далее...
— Это... Гиппиус?.. — переспрашиваю я. — Вы разве с нею знакомы?
— Я-то её и в глаза не видел, только по фотографической карточке влюблён... — отвечает Хлебников, — но вы-то с нею знакомы!.. Мне говорили... умнейшая женщина!.. Редчайшая поэтесса! Красавица!.. Сибилла!.. Она живёт где-то тут рядом, на Литейном... Так ведь? Пошли!..
Мы пошли — и раскаялись. Мы нашли в огромном, роскошно обставленном кабинете З.Н. Гиппиус — не её одну, но и А.А. Блока, Д.В. Философова и Корнея Чуковского. Чуоксвик обогнал нас ещё на лестнице, прыгая, точно козёл, вверх через две ступеньки и стараясь от нас оторваться как можно решительнее, чтобы скрыться бесследно.
Но вот мы сидим уже за чайным столом — с ним рядом. И Корней Чуковский ехидствует:
— Ого, да вы здесь! Прыткие! От вас не убежишь. Кто вы такие?
Зинаида Гиппиус, куря папиросу, смотрела на Виктора Хлебникова с нескрываемым пренебрежением. Но Александр Блок вдруг заступился за Хлебникова и обратился к нему с вопросом:
— Я вас встречал, кажется, в «Академии стиха»? Вячеслав Иванов вас очень высоко ценит, но я ваших стихов не читал, а как вы — считаете себя поэтом или только филологом? Кроме того, вас, кажется, обвиняют... в антисемитизме?.. Это я слышал от Копельмана19![]()
Хлебников как будто ничего не слышит, он, точно одержимый, впивается, наклонясь вперёд, в эффектную фигуру красавицы Сибиллы, Зинаиды Гиппиус. Тогда я толкаю его в бок и указываю глазами на Блока, — ответь, мол, на вопрос. И вдруг, с уст короля времени, поэта поэтов и председателя земного шара срываются почти нечленораздельные звуки:
— Ах, да!.. Меня в чём-то обвиняют!.. И так далее!.. Да... Гм!.. Еврейство на теле русского народа — это карболовая кислота, разъедающая чистую ткань... Надо оберегать полотно от разрушительных пятен... Так разве это антисемитизм?.. И вовсе евреи — не семиты. Семиты — это арабы... Да... ‹...›
Все в ужасе заткнули уши. Зинаида Гиппиус, наведя на Хлебникова лорнет, посмотрела на него уничтожающе. Корней Чуковский прошипел ядовито:
— Эге, видна птица по полёту! Это меня — точно обухом...
А Философов уже рычал остервенело — на меня:
— Кто вам позволил приводить сюда незнакомых людей? Нет никаких сил терпеть.
Улыбался и подмигивал Хлебникову сочувственно только один Блок.
И вот Хлебников, подхватываясь вдруг и собираясь к выходу, подбежал к Блоку, хмыкнул и торопливо протянул ему руку. Суматошно тут же взглянул на ладонь блоковской руки и изрёк:
— Линия жизни пересечена у вас... на самой середине — крестом... Крест — знак роковой... Жизнь ваша окончится, приблизительно, к сорока годам... И так далее... Но к этому времени и я окончу свою жизнь. Мировые катаклизмы! Да что смерть для бессмертных! Адью!
И он стремительно кинулся в коридор, и оттуда на лестницу, — я за ним.
Блока, конечно, смутило неожиданное гадание Хлебникова. Но отнёсся к этому как к озорной мистификации и проводил гадальщика насмешливым взглядом.
Меня поразило гадание. Я видел, что в Хлебникове говорят другие голоса. Мне хотелось вернуться в кабинет Зинаиды Гиппиус, к Блоку и об этом прокричать, но Хлебников тянул уже меня в другой конец Питера — к Николаевскому мосту, где в каком-то салоне, на какой-то выставке будетлянин должен был встретить свою невесту... девушку с чертовскими, фиолетовыми глазами, — как говорил он.
В трамвае, на Литейном, сунув мне в карман входной билет на выставку и пообещав со мною там встретиться — “сюрпризом”, Хлебников на какой-то пересадке вдруг выскочил из вагона и пропал в толпе. Догнать, найти мне его не пришлось тогда. Пешком я добрался потом до выставки один.
Тут в сборе был весь цвет тогдашнего будетлянства: Кульбин, братья Бурлюки, М.В. Матюшин с Гуро, Ларионов, Татлин, Лентулов,20![]()
Таков был Николай Иванович Кульбин.
Голос его звучал обаятельно, усталые, карие, какие-то страдальческие глаза смотрели в душу. И любой слушатель восторженных его импровизаций убеждался, что свобода творчества — основа жизни, и что в России предвидится небывалый расцвет искусства. Спорил с ним разве только Давид Бурлюк, который не верил ни в какую свободу и доказывал, что единственный закон и основа жизни — мордобой, а побеждает в мордобое тот, у кого изобретательнее мозги и крепче кулаки. От Давида шарахались, но в то же время прямолинейность его заинтересовывала всех и обезоруживала.
Шла весна 1909 года. В газетах мелькали уже заметки об итальянском футуризме. Но Давид Бурлюк слово это отвергал, как не признавал и хлебниковского будетлянства. Ему импонировало слово ‘кубизм’, “родителем” которого он себя объявил. Когда же Кульбин с очаровательной улыбкой напомнил Давиду, что слово ‘кубизм’ пущено в оборот ещё Роденом, задолго до появления слова ‘футуризм’, — Давид Бурлюк огрызнулся с видом победителя: если, мол, это так, то “кубисты” же и свезут Родена на свалку.
В какой-то задней комнате за выставочным залом, ныряя туда время от времени с каким-нибудь толстосумом-покупателем, Давид вёл бойкую торговлю своими “эскизными пейзажами”, ничего общего с кубизмом не имеющими. Это были красочные наброски с “настроением”, под Левитана: Давид зашибал на них деньгу.
К концу вернисажа, покончив с коммерческими своими операциями, Давид как бы невзначай нацелился на меня единственным своим глазом (другой — косил) и бросил небрежно:
— Зайди, курский соловей, в мою комнату, там тебя ждёт Хлебников. Наш Коля (брат Давида) разодел его в свой студенческий костюм... раздушил в пух и прах. Только гляди, курянин, не задерживайся там... Не помешай Вите разводить амуры!
Это было сказано так, точно Давид завидовал хлебниковским “амурам”, но помешать им не считал для себя удобным. Вот он и возложил эту миссию на меня. И я, не колеблясь, смело направился в бурлюковскую комнату: ведь Хлебников обещал мне тут на выставке встречу “сюрпризом”.
Открываю дверь, вижу: Виктор сидит на корточках посредине комнаты, прямо на полу. В новёхонькой студенческой синей тужурке с яркими пуговицами и выглаженных таких же брюках из дорогого сукна, в стоячем, накрахмаленном воротничке и галстуке “в искру”, — тщательно выбритый, подстриженный, раздушенный “тройным одеколоном”... “в пух и прах”! Он раскладывал на шахматной доске круглые шашки. Робким жестом приглашал вертлявую, разряженную какую-то девицу в фетровой шляпе с цветами и под вуалью — сделать ход.
Девица, отворачиваясь лицом к окну, приглушённо, издевательски хохотала.
Увидев в дверях меня, Хлебников подхватился, смахнул ладонью пыль с брюк и забормотал суматошно (это относилось к девице):
— Пожалуйста, не сердитесь на меня... Назовите, пожалуйста, ваше имя... Скажите хоть одно слово... Не хохочите!.. Вы не верите Давиду Бурлюку, что я... гм... и так далее?.. Потому что Давид — будетлянин-футурист... Но вот, перед вами — крестьянин-самоучка... не искушённый, так сказать... Скажите, Карпыч... Метнулся Хлебников в мою сторону, — скажите моей невесте, — это мой сюрприз, она моя невеста! — Скажите ж ей, что я... да... и тому подобное!
Тут я понял, что Виктор Хлебников одержим. Возражать ему бесполезно. И не переступая ещё порога комнаты, я выпалил громко, как по команде:
— Велимир Хлебников воистину гений! Надежда России! Её гордость! Слава Велимиру!
Не успел я кончить скоропалительное это славословие, как девица, крутясь на каблуках, подскочила к Хлебникову вплотную, приподняла вуаль и крепко поцеловала его — прямо в губы. И, шмыгнув затем мимо меня ящерицей, выскочила из комнаты.
Но... громы небесные!.. Это была Тамара Забелина!..21![]()
Хлебников таращил глаза, глотая воздух, как будто ему его не хватало. Он ничего не понимал. Я понимал всё. Вот так сюрприз!
Роман мой с певицей остался незаконченным.
И хорошо, что так вышло.
Я бежал от всяческих романов — в творчество. В котомке у меня болтались черновики романа «Пламень». Их я обрабатывал — на скамейках бульваров, на подоконниках вокзалов, везде, где можно было приткнуться с карандашом и бумагой. Оставалось найти издателя, который дал бы аванс под роман.
У Светозара Матюшина был двоюродный, кажется, брат — М.В. Матюшин, тоже музыкант. А у этого брата — жена, поэтесса Елена Гуро. Она издала свою книгу «Шарманка».22![]()
На ловца и зверь бежит: издатель для поэта — лучший капкан.
Раз мы... забрели с Матюшиным в деревянный домик с мезонином, на Песочную улицу, за авансом.
Глядь, а там — целый синклит кубофутуристов. Критики, поэты, литературные девицы с распущенными волосами и небрежно воткнутыми в них ромашками. Тут же Бурлюки: Давид с моноклем на косом глазу и Николай в студенческой тужурке; Велимир Хлебников с суматошным взглядом, голочерепый Кульбин... Можно сказать, весь цвет тогдашнего кубобудетлянства.
Белобрысый Василий Каменский, развалясь на диване, истошным голосом вызванивал свой «Звенидень».
А больше ничего.
Хозяева, Матюшины с девицами — хлопали. Бурлюки хаяли:
— Ерунда, Вася! Разухабисто!
Но всё же Василий Васильевич — настоящий поэт, с ним был я связан по «Весне» Шебуева. „Васю Басеньского” (он сам себя так называл) я любил. Он у меня письма знаменитостей впрок для своей коллекции забирал.
...А Бурлюки неистовствовали. Сомнительная слава опьяняла их. Только что отшумела выставка их кубокартин «Бубновый валет»23![]()
![]()
![]()
А Вася грустил.
— Привет, — подбадривали мы его с Светозаром.
— Приветы! Поэты! — тряс рукой Каменский с расстроенным видом. — Защита, — за щиты! Давид меня съест с костями.
И вот Давид, косоглазый, широкоплечий, неуклюжий, точно кентавр, загоготал вдруг над моим ухом:
— Защиты не ищи ты. В «Ниве» печатаешься? В альманахах? Ну, мы — собьём спесь. От неудачной любви пришел поплакать в жилет? Тут только один я в жилете и брюках, а все остальные — без оных... Рекомендую: Хлебников и прихлебатели.
— Да?
— Да.
— И вы... прихлебатель?
— И я... — сокрушённо вздыхает Давид. — Это ещё что! Тут ежели попросишь Хлебникова — дадут тебе Каменского. Тьфу. Впору от тоски жениться на любой из этих девчонок.
Девицы визжат исступлённо. Хозяйка Елена Гуро безнадёжно машет на кентавра руками, просит защиты от Давида — у Васи:
— Василь Василич, да скажите вы ему что-нибудь, чтоб он угомонился.
А Василь Василич сам в изнеможении:
— Я болен... Он меня изводит. Болезнь у меня!
— А какая болезнь? Не секрет? — язвит опять Бурлюк.
Девицы задыхались от визга. Я всё же осадил кентавра насмешливым вопросом:
— Это — ваша последняя кубическая мудрость? Или — глупость в кубе?
Тогда Давид Бурлюк забурлил ещё пуще! Неожиданность его озадачила. Он начинает импровизировать, изрекать, орудовать словечками, точно разбойник Чуркин — кистенём.
По опыту тут знают, должно быть, чем это пахнет. Велимир уселся на корточки на полу, по-турецки: ждёт свою порцию похвал, точно верблюд ударов. Елена Гуро приготовилась умирать. Хозяин Василий Матюшин, скрипач, — судорожно прячет в шкаф футляр со скрипкой.
Тут у шкафа Василий Каменский, бледный, приготовился к самообороне, без надежды на успех.
А Кульбин — шапку в охапку, да в дверь.
И только девицы восторженно глядели в четыреугольный рот маэстро-кентавра.
А “маэстро” Давид Бурлюк глушил-умыкал девиц.
— В искусстве, точно так же, как и в любви, важно не что, а как . Что — это все знают, а вот как — это знают только изобретатели, творцы... Я — изобретатель, а не приобретатель. Я — обогащаю, даю, а не беру... Предлагаю испытать, как это делается — в любви. А уж потом я открою, как это делается в искусстве.
Елена Гуро говорит с возмущением:
— Ох, не могу. Ну, на что это похоже?.. Василь Васильевич, сократите его!..
Давид скалит клыки:
— А вы, Гуро, всегда держите против меня Камен...ского за пазухой.
В пылу самообороны мечется, верещит откуда-то из угла Каменский, кивая на Бурлюка:
— Он думает, что тут все — Дульцинеи... Ишь как старается. Но ведь перед нами — только Альдонсы. А сам Давид — только центавр... Вот я знаю... Эвридику... Так это — да. Идёмте к ней. Карпов, Хлебников, айда!..
Давид Бурлюк выкидывал вперед клешни-руки в потрясающем гоготе:
— Какого чёрта, в самом деле! Эвридика — одна, а тут — целый цветник. Выбирай любую. Оставайтесь, кто смел.
Светозар остался — с цветником и Бурлюками.
Мы — Хлебников, Каменский и я — всё же ушли.
Художником, близким к кубофутуристам, считался тогда юный Борис Григорьев.26![]()
![]()
Эвридика — это юная жена художника Бориса Григорьева. Сама художница. А главное — редкая красавица.
Когда мы, вооружённые бутылками с пивом, консервами и колбасой (Каменский разорялся в данном случае за счёт своей жены — пермской купчихи), налетели на дом художников на Васильевском острове, — нас встретило разочарование... Короче: нам указали на дверь. На выходную, а не входную.
Юноша в фланелевой блузе, с львиной гривой (как оказалось, Борис Григорьев, в то время — только студент Академии художеств) — прямо так и отрезал:
— Придётся вам, господа, поворачивать вспять.
— Как? Почему?
— Потому...
— Мы будем новые стихи читать. Только держись!
Но юноша-художник чуял, что не в стихах тут сила. Просто банда поэтов ломится в атаку на Эвридику... И, чтобы эту атаку пресечь в корне, Борис Григорьев наскакивает вдруг на тишайшего Хлебникова — главаря, как художнику показалось — банды. Кричит:
— Русский язык понимаете? Я занят!
— А Эвридика?
— Эвридики тоже нет дома.
— Тоже?
— Тоже, — бьёт себя в грудь кулаком Григорьев. — И вообще, господа... удивляюсь, как не стыдно бездельничать?
Молчальник Хлебников тотчас нашёлся:
— Поэты должны быть гуляками, праздными. Мы не уйдём отсюда. Где нам читать стихи и есть колбасу, как не здесь?
— Вон!
— Сам вон! Эвридику или жизнь!
На шум прибегает из-за ширмы воздушное какое-то существо — женщина в золотых жгутах — косах и кружевах, с синими-синими глазами. Высокая, стройная, тонкая, смеющаяся, — чёрт ее знает, откуда она взялась?
— Поэты, — лепечет она мужу-юнцу, — это народ не страшный... Как не стыдно, Борис!..
— Эвридика! — заплясали мы в коридоре вокруг женщины-улыбки, точно дикари вокруг костра. — Наша муза!..
— Радость! Радость!
— Восторг!
— Вдохновение!
— Веди нас в огонь!
— Я — Орфей! — бахвалился Василий Каменский.
— И я! — вторил Хлебников. — Вдохновляй, Эвридика!
Да, это была Эвридика, женщина необыкновенной красоты и обаяния. Она — уроженка Москвы, училась там вместе с Борисом Григорьевым в Строгановском училище живописи. (Эвридика — псевдоним художницы.) Из-за неё многие стрелялись, но она избрала юного художника — в мужья. Муж носил на часовой цепочке, в качестве брелоков-трофеев — пули самоубийц, покончивших с собой из-за безнадёжной любви к Эвридике. А лицо у Бориса Григорьева было всё-таки курносое... Зато — грива львиная плюс талант живописца.
Но и у неё был талант художницы. Она показывала нам свои работы, пленяла нас своим очарованием. Мы в экстазе тут завывали-декламировали ей свои стихи.
Муж мрачно шагал из угла в угол. Молчал.
Вдруг Эвридика подходит ко мне с добытым где-то галстуком — повязывает его на моём воротничке “монополь”. Говорит важно:
— Так будет лучше... Теперь — хоть в театр!
Борис Григорьев многозначительно хмыкнул, но промолчал. А зато Велимир Хлебников — просверлил меня суматошным своим взглядом. И говорит, как бы в пространство:
— М-да... Хорошо быть пастухом... или каким-нибудь таким... бомбистом. А не Орфеем.
Хватает шапку, стремительно бежит к двери.
За ним гонится Василий Каменский. Но Велимир исчез, — только его и видели.
— Выкурил... — возвратясь, в упор глядит на меня Каменский. — А только пастухом быть — это не такая уж большая заслуга... И книжка «Говор зорь» — плохая книжка...
Невозмутимо я отражаю выпад Василия Каменского:
— Не далее как вчера, вы, Василь Василич, говорили диаметрально противоположное этому. Тем более, что и Толстой хвалил книжку...
— Начхать мне на Толстого...
Тогда в исступлении стучу кулаком по столу:
— Дуэль! Вы не смеете так говорить про Толстого.
Каменский отскакивает и тоже стучит — себя в грудь:
— Будет он меня ещё на дуэль вызывать! А колбаса чья? Моя. И пиво — моё.
— Купчихины, а не ваши, — язвлю я.
— А вы г...! Психастеник!..
Тут же сажусь за письменный стол, строчу грозное длинное послание противнику с требованием — немедленно вернуть мне письма Толстого, Мережковского, Блока, Сологуба, Андреева, Горького...
Сворачиваю послание в трубку, стреляю им во “врага”.
Потом ухожу. Эвридика покатывается со смеху.
Так “дрались” мы, поэты. А всё — из-за нежных пальцев женщины Эвридики.
Через два дня с Василием Каменским, после того как он попросил извинить его, я помирился. Писем знаменитостей он мне так и не вернул.
Опять я уехал в деревню, надеясь там вылечиться от “психастении”.
“Обозная сволочь” требовала „искоренения футуризма”, самонахально пёрла из всех щелей в литературу.
После смерти Л.Н. Толстого — тучей литературные шавки полезли наверх. Олимп превратился в базарную свалку. В искусстве и театре обозначились крайние течения; литературный разброд достиг своего апогея. Корифеев заставляли “подавать в отставку” и просто “подыхать”. Ничевоки, лучисты, космисты, эгофутуристы,28![]()
— Наше время пришло! Даёшь литературный кошелёк или жизнь!
А когда публика встречала их свистом и хохотом, били стёкла и устраивали скандалы; они, действительно, как говорил Короленко, напоминали слонов, забредших в посудную лавку.
Бурлюки добились того, что о кубофутуризме закричали на всех перекрёстках.
Журналисты, актёры, врачи, агрономы, социологи, критики, просто авантюристы — “докладчики”, — о чём бы ни говорили в своих докладах, неизменно заканчивали проклятиями футуризму. А Кручёныхи,29![]()
Ничевоки (тоже разновидность футуризма) катались, что называется, „как сыр в масле”.
Какой-то чудак прочитал даже доклад «О вреде табака, чая и футуризма». Публика ему аплодировала. Ничевоки же, футуристы лезли на стену и требовали расправы над докладчиком.
Хлебников не принимал в этой вакханалии никакого участия. Имя его пестрело на всех футуристических афишах, но единственное, что он мог делать, скажем, на бурлюковских выступлениях, это сидеть молча за столом и таращить глаза на публику. Он уже тогда предчувствовал приближение “мировых катаклизмов” и к „мышьей беготне” своих друзей относился иронически.
Маяковский, шумя и скандаля, с первых же шагов держал курс на революцию. А Хлебников предупреждал, что революция „катастрофична”, лирической песне она неизбежно наступит на горло. „Катастрофичность” революции не пугала Маяковского, он доказывал: настоящие поэты — всегда революционеры.
„Будущее темно и неизвестно, — говаривал поэт-горлан, — а в настоящем — наступай на горло буржую!”
За что Маяковский и отсидел несколько месяцев в Москве, в Бутырках.30![]()
Теперь же он, выступая на диспутах вместе с Давидом Бурлюком, львиную долю дохода от выступлений брал себе.
Положение Хлебникова в смысле “доходов” было совершенно трагическим. Кубофутуристы спекулировали именем Хлебникова напропалую, козыряли им, где надо и не надо, а простой заботы о хлебе для Хлебникова никто из них не проявлял.
Давид Бурлюк пробовал, было, уговорить Хлебникова выступить с докладом о будетлянах, потренироваться в „словопрениях”, чтоб „подзаработать на штаны”, но поэт поэтов хватался за голову и шептал в ужасе:
— Я?.. Говорить?.. Торговать словоблудием?.. Гм... Да ни за какие коврижки! Ораторское искусство совершенно противоположно поэтическому... Гм. Можно наговорить сто томов... и так далее... А читать этого никто не будет... Это профанация искусства!.. Если ты оратор, значит, ты не поэт. Гм!
Давида задевала реплика Хлебникова. Бурлюк считал себя одновременно и незаурядным оратором, и оригинальным поэтом, и художником-новатором, — он хотя и отдавал должное „первозданной непосредственности короля времени”, но к самому этому „королю” охладел. Хлебников остался один.
А что же делать и как жить поэту, от которого бегут все, как от чумы? Погружаться в Нирвану, ложиться живым в могилу?
Хлебников не сдавался, бедствовал, но упорно продолжал творить, записывая свои стихи на клочках оберточной бумаги и складывая в угол шестиметровой комнаты, где он жил, и откуда клочки эти растаскивались всеми, кому было не лень.
Из всего написанного им осталась и опубликована, может быть, десятая доля, а остальное — может быть, наиболее совершенное — безвозвратно растаскано “доброжелателями”.
Почерк у Хлебникова был какой-то полудетский, малоразборчивый, кривые строчки тянулись наискось, нередко и поперёк этих строчек шли новые каракули. У “доброжелателей” не проявлялось охоты каракули эти расшифровывать. Клочки летели в печку, а, может быть, переделывались обладателями на “свой” лад, — в чём, говорят, повинен был и Маяковский. Переписывать же свои вещи набело и приводить их в порядок Хлебников не мог из-за отсутствия бумаги, да и времени.
Но он делал попытку пробиться к читателю, обивая с филологическими своими “опусами” и с заумными стихами пороги редакций еженедельников — а их издавалось в Питере тогда около шестнадцати штук, — предлагал рукописи редакциям ежедневных газет и “толстых” ежемесячных журналов, а таких журналов было тоже около тридцати названий! — Ничего не проходило!
Одно время Хлебников искал даже издателя “с авансом”, чтобы выпустить в свет отдельным изданием какой-то свой будетлянский роман в три листа — „из жизни староверов”31![]()
И опять — решительная неудача!
Был ли написан этот роман или ещё только роился в голове автора — неизвестно. Но если бы даже рукопись и находилась в наличии, Хлебникову всё равно не удалось бы её “пристроить”, так как за ним утвердилась кличка “антисемита”, а это означало тогда — смерть.
Вячеслав Иванов, бескорыстный и высокий ценитель Хлебникова, несмотря на свою близость к журналу «Аполлон», не мог убедить редактора-издателя этого журнала, Сергея Маковского,32![]()
![]()
А между тем интерес к хлебниковскому творчеству в литературных кружках не ослабевал и разрастался. Обворовывание “заумных” тем, образов, конструкций, рифм, да и готовых вещей „поэта поэтов” продолжалось. И это делали не только “начинающие”, но и “корифеи”. Стоило Хлебникову, например, непроизвольно прочесть перед М. Кузминым, признанным “метром” и одним из редакторов журнала «Аполлон», своё шестистишие:
“Поджинались” оригинальными рифмами и образцами у Хлебникова и Сологуб, и Маяковский, и Анна Ахматова, не говоря уже о Бурлюках, Василисках Гнедовых,35![]()
— Хм!.. Никто, как свои!..
Тут Хлебников воочию убедился, что ему не только нельзя ждать от кого бы то ни было защиты и содействия — в смысле обнародования своих творений, — но что ему ещё грозит участь “негра”, поставляющего материал для своих “метров”-хозяев, наподобие тех французских и американских “негров” — безымянных тружеников, которые за кусок хлеба писали романы, поэмы и стихи для известных писателей, а эти писатели, исправив, выпускали в свет потом чужие эти “негритянские” вещи под своим именем.
Но Хлебникову не давали даже и куска хлеба.
Редакции газет, журналов, альманахов не подпускали будетлянина на пушечный выстрел. Каждый ежемесячник имел круг своих сотрудников и своё “направление”. В «Русском богатстве», в «Журнале для всех», в «Нашей жизни» и в «Северных записках», позже — в «Заветах» и в «Зарницах» хозяйничали народники с Короленко, Миролюбовым, Пóссе, Венгеровым и Ивановым-Разумником36![]()
![]()
![]()
В начале 1913 года Горький, возвратясь после амнистии в Питер, упорно не признавал футуристов, — так же как и все. И только о Маяковском где-то в кабачке — кажется, в «Бродячей собаке» — Горький обмолвился: „В нём что-то есть”.39![]()
Газеты бесились и улюлюкали. О «Ниве», «Огоньке», «Солнце России» и говорить нечего: там всех сочувствующих футуристам встречали в штыки.
Редакторы периодических сборников-альманахов «Знание», «Шиповник», «Земля», «Слово» печатали только “маститых” и “модных” авторов, а будетлян не прочь были сослать на Сахалин.40![]()
Легче было, действительно, верблюду пролезть, как говорится, в игольное ушко, чем стихам Хлебникова попасть в эти журналы и альманахи. И только как курьёз в «Ниве» помещён был снимок с картиной художника Бориса Григорьева под названием: «Поэт В. Хлебников». Там изображался человек с лицом, закрытым барахольными воротниками и шляпой, так сказать, “заумник”, убегающий от самого себя.
Но это было неверно. Хлебников не убегал от себя, а самоуглублялся, “познавал самого себя”. Не его вина, если все другие, в том числе и друзья, отказывались его познавать и признавать. И он замкнулся ото всех.
Я узнал об этом только после того, как, возвращаясь из далекой курской деревни, встретился в Гатчине с Светозаром Матюшиным. Светозар сказал мне беспечно:
— Не вылечился ты, видать, от психастении! Сгорел. Оно и понятно, — какое же лечение в подполье, да ещё без денег. Хлебников... вон тоже напоролся... заболел психастенией, уехал лечиться в Астрахань...
— То есть как это “напоролся”? — спрашиваю...
— Ополоумел будетлянин... От Тамарочки... Встретился с нею, чтобы, значит, жениться... И на... деньги её отца, капитана Забелина... ехать, так сказать, в заграничное путешествие. Ну, а Забелин — заехал ему в харьковскую губернию.
— Ну, — ты рад?..
— Нет, я опечален, и вообще...
— Хлебников был — твой соперник!.. И мой! Да. Я — не рад.
— Хлебников выше того, чтобы соперничать с кем бы то ни было — Хлебников, конечно, гений. Но он, опозоренный, запсиховал и уехал в Калмыцкую степь... Умрёт, поди, где-нибудь под кибиткой.
— От кого ты узнал, что он уехал?
— От дяди-скрипача — М.В. Матюшина. Дядя удручён. Хлебников — его кумир. Да ведь денег у дяди тоже кот наплакал. А к тому и тётка, хозяйка... Гуро... лежит в последней стадии чахотки. Кругом провал! И всем нам умирать, видно, под забором! — Светозар умолкал и устремлялся за город, в свою берлогу.
Действительно, бахрома на истрёпанных брюках, измятая, засаленная шляпа и мертвенная бледность лица у Светозара подтверждали, что “кругом — провал”. Ютился виолончелист теперь где-то под Гатчиной, в чухонской берлоге-клетушке. По вечерам ездил в Питер, где играл в квартете, в каком-то второстепенном трактире. Этим и жил. Консерваторию забросил. В праздничные дни заглядывал иногда в парк «Пират», искал мимолётных встреч с Тамарой, — напрасно!
Дача в Гатчине капитаном Забелиным была продана, его семья увезена в Кронштадт, следы Тамары затерялись где-то в Театральном училище, в Питере.
Но всё-таки Светозара, да вот и теперь и меня, тянуло к саду любви потаенной. И печальным шумом осуждал нас, неудачных искателей счастья, — северный соловьиный сад.
Впрямь, мы, должно быть, два психастеника.
А беглец, Велимир Хлебников, — третий. Все мы — отверженцы.
Отвергали нас за нищету и за ненависть к богачам — буржуям, к “сильным мира”. Меценаты-толстосумы, обжёгшись на Горьком и Скитальце,41![]()
Теперь для буржуазных церберов Горький был неуязвим и недосягаем. Через его руки проходили сотни тысяч рублей, книги его переводили на все языки мира, к тому же он владел в Питере богатейшим книгоиздательством «Знание» с заграничным отделением в Берлине. Пьеса его «На дне», вспыхнув ракетой на сцене Московского Художественного театра, обошла все мировые сцены. Попытка царского правительства после революции 1905 года запрятать Горького в Петропавловскую крепость не удалась, так как “рассейским” этим варварством возмутилось не только общественное мнение всего мира, но даже — испанский король Альфонс! Выпущенный из Петропавловки, Горький уехал за границу и поселился в райском уголке на острове Капри. А потом попал под амнистию и, возвратясь вновь в Питер, издавал тут журнал «Современник» и «Летопись». Никто не смел Горького тронуть без риска свернуть себе голову. Других гнули в бараний рог.
Скиталец женился на дочери волжского миллионера и разъезжал по заграничным курортам... Он сам плевал на меценатов-толстосумов, воспевал “огарки”. Когда-то его называл Дорошевич42![]()
Меценаты, бесясь, захлопывали свои кошельки. “Новейшие самородки” голодали и лопались, как мыльные пузыри.
Только “самородки”-художники и музыканты-композиторы пользовались покровительством меценатов, таких, скажем, как Мамонтов, Савва Морозов, Шахов. Да вскоре Мамонтов обанкротился и угодил в тюрьму. Савва застрелился, а Шахов удрал за границу. Мелкие меценаты, вроде Ваксмана, Оппеля, Бурцева и Рябушинского, ограничивались пятирублёвыми подачками и предпочитали тех “самородков”, которые ходили с ними в баню — чесать им там пятки.
Хлебников всех их презирал. Но он любил трогательно и нежно чету Матюшиных, то есть М.В. Матюшина и Е.Г. Гуро, делился с ними творческими своими замыслами и поверял им душевные свои тайны. И Матюшины отвечали ему тем же сердечным расположением и доверием, “подкармливали” его и заботились о нём. Елена Генриховна Гуро, выпустив в свет три книжки поэтических своих вещей: рассказы — «Шарманка», «Небесные верблюжата» и пьесу «Осенний сон», подготовляла к печати два тома «Творений» Хлебникова... И вдруг она заболела и надломилась. И вскоре умерла.
Хлебников в сомнамбулической “зауми”, незадолго перед тем, цеплялся за оккультные “науки”, корпел над изучением законов времени и предрекал в студенческом журнале академистов-“белоподкладочников” близкое в 1917 году наступление мировых событий. Завершил же всё это тем, что без гроша в кармане рванулся в “райскую” Индию, к мудрым йогам. Но добрался, как выяснилось, только до Астрахани. И там застрял в какой-то калмыцкой кибитке и занемотствовал наподобие йога. Теперь о нём все забыли.
Над всеми нами, выходцами из народных низов, захлопнулась, точно гробовая крышка, удушливая пора безвременья. У меня осталось одно-единственное убежище, скрытое от полиции. Это — пустующий флигель на даче Ясинского,43![]()
И туда я направил свои стопы. Хозяйка дачи, Клавдия Ивановна Степанова, курянка, человек прекраснейшего сердца, приветила нелегального своего земляка-скитальца и, вручая ключ от флигелька, предостерегла меня от “неосмотрительных встреч” за воротами дачи. Да я ведь и сам это знал.
И вот, замуровался я в облупленном этом домике-склепе с разноцветными окнами. На целый месяц.
Я голодал, не показывался из флигелька неделями и не высовывал никуда носа. Когда-то флигелёк этот щеголял раскраской и отделкой древнерусского теремка, увенчанного вырезными петушками и коньками. Тут помещались, попеременно, редакции издаваемых Ясинским журналов: «Почтальон», «Беседа», «Живописец», «Ежемесячные сочинения» и т.д., но все эти журналы рухнули. В затхлом флигельке остались тюки не разошедшихся журнальных книжек, изъеденных мышами, да кучи пыли. В кромешной этой тьме и пыли, задыхаясь, слагал я стихи о жемчужных озёрах и розоволосых русалках, беседовал с звёздными мирами и преисполнялся “космическим сознанием”.
Отрешался я от живой жизни, не догадываясь, что это и есть Нирвана.
По воскресеньям в соседней двухэтажной даче Ясинского, с чугунными лестницами и картинами Репина и Зарубина, развешанными в столовой по стенам, собирались “на пирог” писатели, артисты и художники. Тут, оказывается, собирались “вечера Случевского”.44![]()
Но тут был и другой “туземец” — поэт-самоучка, Николай Клюев. Одевался он в пестрядинную, набойчатую синюю рубаху, в домотканую суконную чуйку — поверх рубахи, — обувался в смазные сапоги бутылями, волосы стриг в скобку, носил старинный серебряный крест на груди и дёргал длинные, как у извозчика или как у моржа, усы. И так как он был мудрец и мастерски декламировал сильные свои стихи, то “генералы” снисходили к нему и его поощряли. А он всё-таки уединялся в уголок, „поближе к своему брату-мужику”, как говорил он, — то есть к такому же, как и он, “поэту-самоучке”, и признавался ио секрету:
— А не кажется ли тебе, землячок, что мы находимся на неведомой какой-то планете... и учимся мудрому молчанию... А чёрт дёргает нас... трепать языком, блудным словом? И чёрт этот повесит-таки нас потом за язык на железном крючке?.. Все эти неореалисты, символисты, футуристы, ничевоки — это же порождение чёрта!.. Уйдём, землячок... от сраму!..
„Землячком” Клюев не приходился мне никаким, — он уроженец Карелии, я — Украины. Ханжество его меня коробило, да, по-видимому, Нирвана распростёрла тёмные свои крылья и над ним, — мы не противились ей, не противоречили друг другу.
Молча и потихоньку поднимались мы вдвоём и выходили в ночной жасминный сад. Там преисполнялись молчанием — себе во вред; это послужило поводом к обвинению нас в зазнайстве.45![]()
— Осади назад! — этот окрик раздавался везде. Нас, “непутёвых”, осадить было легко. Но вот с Маяковским, „бесценных слов транжиром и мотом”, который только что нагрянул в Питер, — у “корифеев” вышла “заминка”. Он их громил, и они шипели, но боялись его, как черти ладана, и избегали встреч с ним. Но вот Пегас закусил удила и поскакал. За Маяковским не мог угнаться сам чёрт!..
Николая Клюева, поэта-самородка, пришедшего вслед за Горьким из низин жизни, с оригинальными и свежими песнями, не уступающими по мастерству песням поэтов-корифеев, — этого Клюева встречали уже везде с открытой неприязнью, с презрительным то окриком, то шёпотом:
— Осади назад... сгинь, крапивное семя!..
А он печатался в лучших тогдашних журналах. Первая книжка его стихов с предисловием Валерия Брюсова обратила на себя всеобщее внимание, но это было внимание негра к белому пятну на чёрном своём теле: белое — уж это, дескать, не к добру!..46![]()
Биография поэта-самоучки представлялась многим крайне запутанной. Мельком Клюев утверждал, что в ранней юности “подвизался” послушником в Соловецком монастыре, потом из монастыря бежал, скитался по карельским лесным трущобам, попал за бродяжничество в “узилище”, а потом — в казарму, где подвергался пыткам, объявил голодовку и только на десятый день после голодовки, без зубов, полумёртвым, был выпущен на свободу. Стихи слагал будто бы изустно, сам их не записывал, а записывали другие, из чего постепенно и составилась книжка «Сосен перезвон».47![]()
Так как книжку эти критики “с направлением” причислили к „декадентским фокусам”, а это означало конец легенде о “самородке”, Клюев, запуганный, переключился на “народные” мотивы. И это звучало фальшью, подделкой. Тут и споткнулся Николай Клюев.
Молодые, прославленные “метры” — Андрей Белый, Блок, Сергей Городецкий, Гумилёв, Игорь Северянин перегрызлись друг с другом и вместо стихов занялись писанием деклараций, “манифестов”. Казалось, они запутались совсем в трёх соснах — символизм, акмеизм, футуризм!..
А как раз в это время “на улицу” выступил и зашагал “семимильными” шагами 20-летний горлан улицы — Маяковский. С лёгкой руки Давида Бурлюка футуристы присвоили его имя себе, но он и не думал пользоваться модными ярлыками, — открыто восставал против всех и всяческих авторитетов, доктрин. Это был ледокол русской поэзии.
Рабочее движение то клонилось к ущербу, то вспыхивало вновь. Но “крот революции” рыл землю неотступно... Забастовки, глухие демонстрации вспыхивали то здесь, то там. Юного Маяковского тянуло — возможно, бессознательно — к „безъязыкой улице”, то есть к рабочему люду. И он не стеснялся разбрасывать среди фешенебельной публики революционные лозунги и прокламации и называть себя бунтарём.
В публике смотрели на это как на обычные „футуристические фокусы”, но “метры символизма” встревожились не на шутку. Андрей Белый, например, находясь наездом в Питере и раз-другой побывав на выступлениях Маяковского, стал воспринимать его „сакраментальный рёв” (выражение Белого) даже не в плане революционном, а в плане апокалипсическом.
— Это — предтеча антихриста, этот верзила Маяковский. В нём есть что-то от Вельзевула!.. — возмущался „Боря” (так звали Андрея Белого, то есть Бориса Бугаева, в башне Вячеслава Иванова «Оры», на Таврической улице, где москвич Белый остановился на несколько дней). — Это даже не пришедший хам, это какой-то посланец из преисподней! Он означает в нашей жизни трагический конец!.. Погибнет культура, искусство, гуманизм, всё!.. И не потому ли он импонирует толпе, что имя ему — легион?.. А наши Мережковские в «Речи» да в «Русском слове» воздают легиону хвалу... О чёрт!..48![]()
Тишайший Александр Блок, навещая Белого в башне «Оры»49![]()
— Раз такие, как Маяковский — не поэты, а только горланы-крикуны, то придавать им значение не приходится. У этого Маяковского, например, совершенно отсутствует ритм, музыкальность... его рваные строчки напоминают грохот пустой бочки, сброшенной под гору... А без музыки нет поэзии. Верлен прав: музыка, музыка, прежде всего! Ни один композитор не сумеет положить на музыку какофонию слов Маяковского. Правда, у него есть хлёсткие строчки, пригодные для газетного фельетона. Но он не выдержит, если слуха его коснётся „божественный глагол”. Потому что тема его — тема ненависти и разрушения, а не тема любви и созидания. Где толпа, там ненависть, конец культуре. И, может быть, и мир движется к разрушению?
Разговор этот завершился меланхолическим замечанием присутствующего тут же хозяина башни, Вячеслава Иванова:
— Дело не в толпе, а в том, что наступает кризис гуманизма, конец человеколюбия. Кого в этом винить? Толпу? Но толпа живёт под “ярёмным трудом”, дышит ненавистью, и ей в высшей степени наплевать на культуру, которая созидается рабством. Толпа любит не культуру, а цивилизацию, что глубоко противоположно. Цивилизация же ведёт к гибели истинной культуры, первозданной природы и радости, и к гораздо большему закабалению человека машиной, чем было до сих пор. И, таким образом, мы будем свидетелями гибели человека и воцарения черни, крушения любви и торжества ненависти. Предотвратить это — свыше наших сил.
— Что же это будет? — взметнулся Андрей Белый, — светопреставление?!
И все замолчали. Ни у кого не повернулся язык произнести слово революция. Но каждый почувствовал её дыхание, уже такое близкое.
А что касается меня, тайного чернорабочего этой революции, подпольщика и, так сказать, посланца “преисподней”, которому случайно пришлось выслушать эти жалобы “метров” на современность, — то оставалось мне только одно: молча уйти. Что я и сделал.
Но после этого, встречая Маяковского на вечерах «Бродячей собаки»,50![]()
В своеобразные “божки” попал прямо из преисподней, положим, и Маяковский, но это был божок, если можно так выразиться, — хвостатый, “от Вельзевула”.
Аристократическая, неприступная Анна Андреевна Горенко, родственница “нетленного” белгородского святителя Иоасафа,51![]()
— Аминь, аминь, рассыпься!
А “желтокофтец” Маяковский, пользуясь её смятением, наседал на неё и напевал ей в ухо на мотив «Ухарь-купец» — гнусавым голосом:
Это — начало одного из популярных стихотворений Ахматовой, воспевающих печаль душевных утрат. Заканчивал его Маяковский на тот же ухарский, залихватский мотив, перебирая пальцами на воображаемой гитаре и притопывая каблуком, — так:
И, насвистывая, он круто отступал к выходу, надевал широкое своё мохнатое пальто и блестящий цилиндр и пропадал за дверью, бросая напоследок:
— Подохнет ваша дохлая муза, ваше преподобие...
На запоздалую помощь к Ахматовой кидались рафинированные её поклонники, пижоны, пичкали её валерьянкой, возмущались „хулиганской выходкой желтокофтца”, хотя в присутствии этого желтокофтца не смели и пикнуть, опасаясь его импозантной фигуры и увесистых кулаков.
Инцидент поверг Ахматову в ужас. И она, прислонясь в изнеможении к стенке в «Собаке», размалёванной под крикливо-балаганный лад, нюхала с зажмуренными глазами то валерьянку, то свежие цветы. По бледным её щекам скатывались капли слёз.
Поклонники всячески успокаивали поэтессу, подсовывали новые пучки цветов, превозносили до небес её талант, клялись в безмерной любви к её серафической музе... А по существу все чувствовали: появился могильщик этой музы — молодой Маяковский, который рано или поздно сыграет в жизни “русской Сафо” роковую роль. И ужас охватывал хрупкую Ахматову не потому, что развязный “футурист-желтокофтец” издевался над её музой, — а потому, что за подспудным рыком его маячил страшный смерч революции, способный смести с лица земли всю сорока вековую — начиная от древнегреческой Сафо — золотую “серафическую” поэзию и принести с собой век поэзии железной взамен. Противостоять же этому смерчу, как говорил Вячеслав Иванов, „свыше наших сил”.
Тогда для идеалистически настроенных “божков” революция („светопреставленье”) казалась делом неопределённого будущего, — ни дня, ни часа прихода её никто, дескать, не знает. От всего временного и злободневного они отвращались, их увлекало “вечное”, а это “вечное” — космос, звёздная бесконечность, серафическое касание „мирам иным”. И таким “касанием” представлялись идеалистам “магические” стихи Ахматовой и её “аура”. Необычайная судьба и головокружительная поэтическая карьера Ахматовой служили предметом восторгов для начинающих поэтов и поэтесс, сумасбродных мистиков-теософов, свежеиспечённых “метров-божков”, которые с тоненькой, только что вышедшей в свет первой книжкой стихов “русской Сафо” — «Вечер» носились, как с Евангельем.
Около двух лет назад, с первых же шагов Ахматовой в литературе, когда в эстетском журнале «Аполлон» появились за подписью Черубины де Габриак, с иллюстрациями Лансере,52![]()
Утверждали: отец её — потомок запорожцев и внучатый племянник святого Иосафа белгородского, — в молодости путешествовал по Испании, женился там на какой- то испанской ‹пропуск в тексте. — ред.› И у них родилась дочь. Это и была — “русская Сафо”, то есть Анна Андреевна Горенко-Черубина де Габриак-Ахматова.53![]()
Сам Маяковский теперь гремел.
За несколько лет до первой мировой войны и Октябрьской революции присяжный критик кадетской «Речи» Корней Чуковский, который разносил на страницах этой газеты „паровых демократов” (его выражение), — почуяв веяние свежего ветра, прочитал в Питере и в Москве свой доклад: «Маяковский и Ахматова».54![]()
Докладчик доказывал: Ахматова в нежнейших стихах воспевает индивидуалистов-титанов, но века великанов, презирающих толпу и предпочитающих единоборство только с равными себе, кончились; уделом их осталось одиночество. А так как толпа, масса маленьких обеднённых людей объединяется в партии и союзы, то она представляет более могучую силу, чем силы титанов. И вот, поэтом этой толпы, “горланом улицы” выступает Маяковский. И, значит, за ним — будущее. Футуристы тут ни при чём. У футуристов — потуги на величие и на единоборство “с равным себе”, но это — пигмеи, и они обречены на забвенье. Маяковский же — величина, потому что за ним — сплочённая толпа. И хотя стихи Ахматовой прекрасны, — закат её также неизбежен, потому что “серафическая муза”... теперь уже... муза одиночек.
Про „паровых демократов” („не душа, а пар”) Чуковский совсем забыл.
Давид Бурлюк, задетый за живое, объявил Чуковскому и всей „сумятице и неразберихе критической возни” — по поводу футуристов — войну, обвиняя своих критических противников в „гнусности и передержке”. Главный козырь у Давида, как и всегда, был Хлебников, поэтому и назвал он свой доклад «Пушкин и Хлебников», с подзаголовком: «Позорный столб российской критики». У Пушкина — признавал Давид Бурлюк — только две вещи, „достойные вечности” — «Египетские ночи» и «Медный всадник», всё остальное сбрасывал с парохода современности, как „отрыжку байронизма и как традицию державинской преемственности”. Хлебникова же, разрушителя всяческих канонов и традиций, речетворца-созидателя и восстановителя „арийского пласта культуры”, ставил докладчик выше Пушкина; заодно он превозносил Маяковского и даже Кручёных, а всех критиков футуризма — Чуковского, Философова, Измайлова55![]()
„Отец российского футуризма”, надо отдать ему справедливость, обладал незаурядными организаторскими способностями. Ещё со времён первых выставок картин художников-футуристов «Звено», «Венок» и «Бубновый валет» он играл роль коновода, заводилы, выискивал среди пытливой, беспокойной молодёжи своих единомышленников, сколачивал товарищества, писал уставы, носился из Москвы в Петербург, из Киева — в Одессу, доставал деньги, устраивал диспуты, издавал сборники. Наряду с “кубистскими” своими картинами и портретами он писал и “заумные” стихи. В поэзии вместе с Хлебниковым воевал за „самовитое” русское слово, открыто придерживался националистических тенденций и проповедовал расовую теорию искусства. Был Давид Бурлюк тогда почти юдофоб.
Когда же в начале 1910 года рабочие демонстрации и забастовки напомнили о нарастании новой революционной волны, а вся свободолюбивая печать, после убийства Столыпина евреем Богровым в Киеве,56![]()
![]()
![]()
Но Бенедикт Лифшиц, умница и сибарит, по национальности еврей, а по воспитанию — “европеец до мозга костей”, относился к антисемитской свистопляске дураков с глубоким безразличием и в «Гилею» —то есть в бурлюковскую организацию „настоящих футуристов” — вошёл как настоящий гилеец. Более того: этот истый поборник и ценитель языковой стихии, воссоздал в «Гилее» нечто вроде культа хлебниковского речетворчества и востоколюбия, а впоследствии подружился с Хлебниковым и был верен бескорыстной дружбе с ним до конца.
Престиж «Гилеи», благодаря участию в ней Бенедикта Лифшица, блестящего эрудита, знатока французской поэзии и апологета многовековой поэтической культуры Запада, в глазах публики повысился, что и требовалось доказать. Без Лифшица теперь уже не обходилось ни одно выступление футуристов.
«Гилея» представляла собой основное ядро русского футуризма и получила своё название от древней земли в Таврии, на берегах Эвксина. Там, в Чернянке, гнездилась многочисленная бурлюковская семья, глава которой заправлял имениями графа Мордвинова с десятками тысяч десятин плодороднейшей земли и с миллионами голов тонкорунных овец, породистых свиней и отменных коров. Богатства этого хватило бы на сотни таких многолюдных семей, но отец бурлючьего гнезда Давид Фёдорович Бурлюк, хотя и содержал свою семью “на широкую ногу”, хоть и кормил бесчисленных её нахлебников до отвала, а особой потачки своим сыновьям — служителям муз — не давал. И они сами должны были зарабатывать деньги на свои „шалости” (так называлось в семье Бурлюков служение музе). Что бурлючата, особенно старший из них, — и делали. Давид Давидович Бурлюк зарабатывал своими выставками, продажей своих картин, докладами, изданиями — тысячи.
А Хлебников голодал. Да и Бенедикт Лифшиц, после того как он, окончив университет, сломя голову ринулся в футуристическую пучину, очутился вдруг на мели: родители отказали ему в помощи, а жить на случайный литературный заработок с замашками сибарита вряд ли было возможно. Но он, перекочевав в Питер, тем не менее, жил и даже щеголял, прогуливаясь по Невскому в цилиндре, в новейшем смокинге и в лакированных башмаках. У него не переводились романы со студийками театральных курсов. Бурлюки его, очевидно, поддерживали материально.
Футуристы имели неодинаковые материальные средства, — иные из них совсем ничего не имели. Каждый придерживался своеобразных моральных или аморальных взглядов на жизнь и жил по-разному. Поэтому и относились тогда футуристы к обострению рабочего движения в стране и всматривались в будущее — с неодинаковыми тревогами и надеждами.
Маяковский, например, как уже говорилось здесь, открыто провозглашал бунтарство и связывал, хотя и осторожно, свою судьбу с революционным подпольем; группа «Гилея» продолжала тяготеть к азийскому Востоку и барахтаться в националистическо-идеалистической эстетике.
«Петербургский глашатай»59![]()
«Рыкающий Парнас»60![]()
Но всех заедала любовь и слава. И каждый кичился сомнительными своими победами над женщинами и вёл, на манер Пушкина, свой донжуанский список. Это было у футуристов нечто вроде психоза, и это служило главным стимулом кипучей их деятельности. А результат один и тот же — ноль.
Времена заступали грозные и неотвратимые. На Волге голодали мужики, а царский министр Кривошеин похвалялся, что „у нас небывалый урожай”, и доказывал, что Россия становится житницей мира и диктует хлебные цены на Римской мировой бирже. В Бодайбо, на Лене, солдаты царской армии, натравленные жандармами, стреляли в рабочих золотых приисков, а министр Макаров заявлял в Государственной Думе по этому трагическому случаю: „так было, так будет”.
Забастовки и демонстрации бурей проносились по всей стране. Ленин, живя за границей, пристально следил за событиями на родине и писал в нелегальной прессе: „Русский народ идёт навстречу революции” (статья «Начало демонстраций»).61![]()
— Это — не по части служения муз... Когда массы сражаются на баррикадах, музы молчат... На судьбы земли, по некоторым домыслам, влияют солнечные пятна... и порождают на ней смятения, катаклизмы... и так далее. А предотвратить катаклизмы — свыше человеческих сил! Что-то страшное будет!
— Поживём — увидим! — ухмылялись Бурлюки, а за ними — все “служители муз”. — Нас не запугать!
И увидели — в 1917 году: после трёх лет первой мировой войны грянула всесокрушающая революция и похоронила под собой не только весь тогдашний Олимп, но и все сопутствующие ему “измы”, в том числе — издыхающий футуризм.
Жаль было только Хлебникова, который погиб, не вняв собственным своим творчествам.
Голод, болезнь, поруганная юность, ночёвки под открытым небом — всё это делало своё дело. Я потерял точку опоры, так как из флигелька на даче Ясинского должен был убраться по обстоятельствам, от меня не зависящим. Найти другой какой-нибудь угол или достать обед хотя бы за восемь копеек (такой обед доставал я раньше, в рабочей столовой Гознака) — теперь было так же трудно, как выиграть двести тысяч... Забыл я родных и близких, да и они забросили меня — по той простой причине, что сами нищенствовали. Днём ходил я, едва волоча ноги, по окраинам города, “гранил мостовую”, а ночью засыпал, не помня себя, где-нибудь под забором или под мостом.
Под конец нашёл я — не “точку опоры”, а обыкновенный стул — стул за читальным столом в Публичной библиотеке. Рядом со мной, нахохлясь, положив руки и голову на стол, сидит (не сидит, а спит) обтрёпанный юноша с каким-то птичьим пухом в нестриженых волосах.
— Товарищ... — бужу его осторожно. — Может быть, выйдем... на минутку... в курилку?.. Вы больны?
Товарищ открывает глаза, смотрит на меня детски-доверчиво. И сразу же отвечает — “на ты”:
— Это ты верно сказал, — не “братец” я из союзной чайной, а товарищ. Поэт я, звать меня Иван Ерошин.62![]()
Соображаю: вздыхать и охать да жаловаться на свою лютую судьбу, — занятие не из завидных. А не лучше ли вот сейчас “взять быка за рога”, то есть, пойти в Литературный фонд, вытребовать на двоих поэтов-самоучек двадцать пять рублей и, воспрянув, зажить вдвоём, наперекор всем лютым судьбам!
— Рыбак рыбака видит издалека... — роняю я неопределённо. — Точно: мы оба самоучки, всё это так, да ведь на этом далеко не уедешь. Надо бы достать деньжат...
— Во-во, — подхватил Ерошин. — И сам я об этом ломаю башку. — Где ж их достать, деньжат?
— Я думаю, — у Пантелеева, председателя Литературного фонда.63![]()
И вот мы с Иваном Ерошиным — у Пантелеева, в его квартире на Бассейной улице.
С добродушным Пантелеевым, старым общественным деятелем Сибири, потом петербургским деятелем мировых классиков и покровителем русских молодых талантов, у меня были странные отношения, напоминающие, грубо выражаясь, „игру чёрта с младенцем”. Как председатель Литературного фонда и в некотором роде меценат, он на первых порах помогал мне жить, одно время носился даже с мыслью издать на средства фонда книжку моих стихов, как делалось это в своё время с Надсоном, на десяти изданиях которого фонд заработал сотню тысяч рублей, говорят. Когда же ознакомился Пантелеев с моими стихами, он завопил возмущенно:
— Футурячина! Декадентщина!.. Какой вас чёрт надоумил увлекаться этой дребеденью? Займитесь лучше опять хлебопашеством.
И книжку моих стихов отказался печатать наотрез. А я с того дня наотрез отказался встречаться с ним, как будто мои встречи для старика что-нибудь значили, и как будто он нуждался в них, а не я! Но, оказывается, для меня встречи эти значили многое, и я должен был теперь их возобновить.
Увы! Предпринятая вместе с Иваном Ерошиным новая встреча, то есть новая атака на Пантелеева, с треском провалилась. Пантелеев нас не принял, то есть он принял нас, должно быть, за футуристов, выслав нам только “кукиш” через прислугу.
— Ну что, схватил?.. — подковыривал меня Ерошин. — Прислуга обозвала нас... футуристами.
— Да ведь я из-за тебя старался, а не из-за себя!.. — отвечал я с досадой. — А ты ещё меня подковыриваешь!
— Да я не подковыриваю, а рыдаю!
— Не рыдай! Мы своё возьмём — не тут, так в другом месте. На то мы и “футуристы”!..
— Везде буржуи-кровососы нас едят живьём, — заметил Ерошин. — Мы калеки, а они словно бы... жеребцы.
— Ты кого имеешь в виду, говоря „они”?
— Буржуев-кровососов имею в виду. А ты, калека, не ерепенься.
— А как, по-твоему, старик Пантелеев — кровосос?
— Вроде того...
— Ну а я о нем другого мнения... — спорю я с Ерошиным. — Это — благородный человек... Вот он сейчас отказал нам в приёме... но это — из-за дыромоляйского окружения. А сам он нас, самоучек, несомненно жалеет. Не раз он меня выручал из беды. Я его уважаю. И чтоб тебе, другим и третьим доказать это, — вот при тебе, свидетеле, посвящаю ему свое стихотворение... И понесу сейчас это стихотворение в редакцию архилевой «Правды». Результат будет один и тот же: нас и там не примут.
— А меня принимали там... и печатали! — подбоченился Ерошин.
— Так зачем же... рыдаешь?
— Рыдаю я о судьбе писательской... Страшная судьба! Об этом надо говорить долго и отчаянно. Бежим! Поговорим по душам!
И мы, я, калека, да “квёлый” Иван Ерошин, отскочив, как ошпаренные, от дома Пантелеева, прошкандыбав в соседний скверик, уселись на скамейку и предались грустным размышлениям на тему о том, продолжать ли нам “писательствовать” или вернуться в родные деревни и заняться, как в детстве, хлебопашеством? Оно, конечно, быть... “писателем” — участь завидная. Любят это дело на Руси. Нигде звание писателя так высоко не ставится, как в России. Звание литератора предпочитать всякому другому, как известно, завещал Салтыков-Щедрин, а до него Белинский. И гораздо раньше, ещё в екатерининские времена, на писателей смотрели как на полубогов и славе их завидовали даже коронованные лица. Сама Екатерина писала свои “комедии” только потому, что её не удовлетворяла слава царицы, и она втайне мечтала о лаврах Державина и Фонвизина. А Радищева и вовсе сжила со свету — из зависти. Царь Николай Первый — “Николай Палкин” — тоже писал стихи, втихомолку завидовал Пушкину и Гоголю, по своей глупости, хотя и считал себя умнее этих гениев. Один раз даже давал Палкин совет Пушкину переделать «Бориса Годунова» в „повесть наподобие Вальтер-Скотта”. После смерти Гоголя за восторженную статью, посвященную памяти знаменитого писателя, Тургенев понёс суровое наказание — его выслали из столицы. Сильные мира завидуют писателю и ненавидят его при жизни, но ещё больше ненавидят — по смерти, когда слава поэта вспыхивает новым светом и имя его становится легендарным. Николай Палкин делал вид, что вообще выше славы — повелителя огромного государства — ничего не может быть: вот почему не мог он выносить выражений чересчур пышных «О Гоголе» и подверг гонению Тургенева. А самоучек сильные мира ненавидят за то, что они лезут с суконным рылом в калашный ряд!64![]()
“Выражений чересчур пышных” по адресу писателей-самоучек никто не выносит и сейчас, а если порой кому и воздаёт должное, славословит и признаёт, так это тот, кто сам метит в писатели и со времен надеется на такие же славословия от других по отношению к себе. Буржуй же, образованный кровопивец, пока он не напечатал на своей карточке: „литератор”, относится к писателю-самоучке, можно сказать, по-николаевски, по-палковски: он не выносит выражений “чересчур пышных” о писателе и раскупает книги только тех критиков, которые разносят писателя “в пух и прах”. Каждая козявка из газетной подворотни метит в Шекспиры или Пушкины, но — тайно: всё-таки боятся козявки насмешек, стыдятся открыто называть себя писателем. А может быть, да так оно и есть, — козявичий стыд куда-то исчез, и все они объявили себя литераторами?! Так-таки и объявили! Тьфу!
А быть писателем среди бездарных графоманов страшно!
Буржуи-кровопийцы рассуждают так: ежели эпидемия писательства захватила буквально всех от мала до велика, коли пишут аптекари, писаря, парикмахеры, бухгалтеры, дантисты, юнкера, прыщеватые люди в пенсне, рабочие, пахари, старики и дети, то этим создаётся величайшая опасность в социальном отношении. Как известно, писательство требует прежде всего: свободы от необходимого труда и праздности. Так вот: раз люди начнут бросать работу, манкировать службой, уменьем мошенничать, и все до одного пожелают быть писателями и предадутся праздности, — ибо ведь праздность — одно из условий “творчества”, — то положительно некому будет ни пахать, ни сеять, ни строить жилища, ни работать на фабриках и заводах, ни изготовлять одежду... Тьфу ты, пропасть!.. Неужели наступит конец свету? Вот разве обложу всех графоманов налогами за право писать стихи и прозу — то есть предаваться праздности и самоучительству в поисках новых слов, эта мера, пожалуй, восстановила бы порядок, но — отчасти только; графоманы будут больше мошенничать, доставать деньги “со дна моря” и платить налоги, а “писательства” не бросать всё-таки. Заколдованный круг. Вечное проклятие, а не слава — вот что такое писательство.
Ну, что же, каждый имеет право быть писателем, поэтом, раз налицо есть талант. Да в том-то и дело, что у огромного большинства, даже “известных”, — не говоря уже о мелюзге — нет и крупицы таланта. Это просто ремесленники, которые набили руку на газетной работе и потрафляют редакциям, но никакого отношения к искусству не имеют. Меж тем многие из них получают тысячи, и чем бездарней борзописец, тем он больше получает. Михайлов-Шеллер,65![]()
![]()
![]()
Точка!
В тоске сумбурные эти “чемоданы” мы, отверженные и гонимые, выпаливали неизвестно кому залпом, не подозревая, что обращаются эти “чемоданы” против нас же самих. Тогда мы были убеждены, что это — обвинительный акт против буржуев-кровососов. И Иван Ерошин кричал в пространство:
— Будь я проклят, ежели не буду знаменитым поэтом! Будет революция! Отомщу всем буржуям-кровососам! Но где нам пока стать, чтоб... грошей на шамовку достать?
Мне осталось сделать ещё одну попытку достать грошей “на шамовку” — в конторе редакции архилевой газеты «Правда», а не у буржуев-кровососов. В «Правду» мы с Ерошиным и направились. Контора газеты находилась, кажись, на Николаевской улице. По дороге мы продолжали разглагольствовать всё о том же — о страшной писательской судьбе. Бездарное писательство — это тунеядство и праздношатательство; не почётом, а всеобщим презреньем должны пользоваться лжеписатели, эти паразиты на народном теле. Великие писатели: Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Достоевский и другие не были “писателями”, это — были пророки, теурги, мученики слова. И умерли они, как мученики, сожжённые на костре жизни... А значит, и всем остальным талантливым писателям нужно сделаться подвижниками, страстотерпцами-правдоискателями, а бездарным — немедленно бросить писать и заняться чем-нибудь существенным, — ну, хотя бы выжиганием по коже. Эх, эти места в литературе! Как подумаешь хорошенько, за ними и гнаться-то не стоит: всё равно лютая судьба придушит на этом самом месте!..
— Мы, поэты — народные таланты!.. — выкрикивал Ерошин. — Поднимется революция — нас понесут на руках!.. Берегись, богачи, беднота гуляет!..
Когда я напомнил этому энтузиасту, что вряд ли революция будет носиться с поэтами — “народными талантами”, скорее наоборот: согнёт их в бараний рог, заставит воспевать “вагранку”, да кстати копать картошку, — ерошинский энтузиазм тут же разлетелся в прах. Но юный поэт-самоучка всё ж не унимался. Детские его ясные глаза загорелись вдруг ястребиным огнём, губы сомкнулись в хищном изгибе, а пальцы сжались в кулак, как будто он готовился ринуться в бой с неведомым врагом:
— Докажу народную силу! — верещал он.
Сам же тут, на городском уличном тротуаре, шатался, измождённый голодом, от ветра.
В просторной приёмной редакции «Правды», куда мы с Ерошиным вваливаемся прямо с улицы, сидели, развалясь на диванах, небезызвестные тогда литераторы: Алексей Будищев, Александ Рославлев, Сергей Соломин, Демьян Бедный, юный Яков Бердников.68![]()
В Питере, помимо солидных многотиражных газет, которых насчитывалось около дюжины, — выходили ещё кратковременные газеты — эфемериды, которые отцветали, не успев расцвести. Их добивали судом и административными штрафами. Но вот, среди этих эфемерид крепко держалась и не переставала выходить в свет большевистская газета «Правда». Издавалась она будто бы на средства путиловских рабочих, но все знали, что это — орган Центрального Комитета партии большевиков. Средства на издание газеты приходят из-за границы. Петербургские власти долго не разрешали “путиловским рабочим” издавать газету. Тогда рабочие-большевики прибегли к хитрости: перекупили у какого-то попа ранее выданное ему властями разрешение на издание “духовно-нравственной” газеты «Правда» и приступили к делу... Большевистская газета в Питере увидела свет, с первого же номера став на защиту революционного рабочего движения. На газету сыпались штрафы, подставных её редакторов сажали в тюрьму, на их место становились новые “ответственные редакторы”, и газета жила — фактическим редактором был студент Политехнического института В.М. Скрябин (Молотов), который подписывал свои статьи просто: „Рябин”. А секретарские обязанности нёс Еремеев — фанатический большевик из старообрядцев.69![]()
Так вот, он прямо так и рубил сейчас сплеча:
— К чёрту “проблемных” этих “модных” писателей! Нам присылал на днях свой рассказик Леонид Андреев. А я возвратил ему с надписью: „Мрачный, пессимистический тон рассказа для газеты не подходит”. На кой чёрт сдались нам пессимисты? Нам нужна бодрая литература, а не декадентская дребедень!
Алексей Будищев запротестовал вдруг:
— «Семь повешенных», по-моему, не дребедень, а гениальная вещь! Правдивая! Согласен голодать, чтоб слышать правду.
— За «Семь повешенных» Леонида Андреева можно возненавидеть!.. — возмущался Еремеев. — Он скрыл, смазал судей, прокуроров, палачей, а показал только казнимых. Да и казнимые — чем заняты перед смертью? Не идеей, за которую гибнут, а собственным самоковырянием.
— Что же это за идеи, скажем, у Цыганка или у Янсона? — двинул плечами Будищев, — идеал грабежа? Но когда Янсон упорно твердит на суде: „Меня не надо вешать”, — он прав. Казнить никого нельзя! И я сочувствую революционерам, которые провозглашают лозунг: „Долой смертную казнь!”
— И я сочувствую! — рявкнул Александр Рославлев. — Оттого, что у меня урчит в голодном брюхе.
Закрутил головой Демьян Бедный отрицательно.
— В вашем сочувствии, господа, мы не нуждаемся. И вообще, революционерам в “сочувствии” монархистов позволительно усомниться. А вас, Рославлев, я застрелю первого, ежели революция победит! Вы — перемётная сума!
— Го-го-го!.. — загоготал вдруг Рославлев, — это здорово. В чём же вина Александра Богатого, бывшего ученика ремесленной школы и голодного владельца паршивой перемётной сумы, перед Демьяном Бедным, приват-доцентом Военно-Медицинской академии и наследником великокняжеских имений?..
Но, впрочем, для самосуда, особенно революционного, вины не требуется, это я понимаю. Только уж, Демьян Бедный, будьте последовательным преемником великокняжеских традиций: не расстреливайте, когда очутитесь у власти, а вешайте! Я на этот случай и стишок приготовил. Вот он:
Не плохо? Гы-гы-гы!.. Может, возьмёте в «Правду»?
Громадная фигура Рославлева, напоминающая фигуру известного в Питере борца-силача, великана Святогора, тряслась от хохота. Дело в том, что по Петербургу ходили слухи, будто Демьян Бедный, по паспорту Придворов, — морганатический единственный сын какого-то великого князя Романова и действительно окончил Военно-Медцинскую академию. Стрела, пущенная Рославлевым, попала, видимо, в цель. Демьян Бедный покраснел, точно рак, заёрзал на диване и готов был броситься на Рославлева с палкой. Но Еремеев охладил страсти.
— Будет вам! Ша! — зашакал он, — у нас не революционный трибунал... и редакция «Правды» не суть дискуссионный клуб. Это вполне легальное узаконенное и разрешённое власть предержащими общественное учреждение. Так вот и скажите всем: «Правда» — легальная рабочая газета. А вы... за царя?
— Да мы не охранники, успокойтесь! — подхватился бородатый и заспанный Сергей Соломин, — мы — пролетарии в буквальном смысле слова. Настоящего града не имеем, но грядущего — взыскуем. Мы честные литераторы, служители справедливости и добра, а не заплечных дел мастера! Нас вы не приемлете не потому, что мы работали в «Биржовке», а потому, что мы — за любовь, в то время как вы — за ненависть. Но разве без любви можно строить жизнь? На ненависти можно воздвигнуть башни и дворцы, да жить-то в них будет некому! Люди перегрызут со злобы друг другу горло, а то и вовсе передохнут со скуки. Останутся только жратво-испражнительные работы... Вот их-то и превознесут до небес!
— Заткните свой фонтан! — прервал его Еремеев, — молите вашего бога, что мы не любим городовых, а то бы мы отправили вас в больницу «Николая-чудотворца».
— Будут и у вас свои городовые, попомните мое слово! — загорячился Соломин, — уж вы-то покажете всем, где раки зимуют. Я же, во всяком случае, корректнее вас: не намерен показывать вам место, куда ворон костей не заносил. Скажу только одно: если данный царь — злая бездарность, то есть надежда, что его сменит добрый и даровитый наследник. И народ вздохнёт свободно. Но уж если власть захватит коллектив, хотя и коммунистический, — пиши пропало: все превратятся в постылых роботов, всем свободам на веки вечные наступит конец. Это будет такая ужасающая охра, от которой даже роботы полезут в петлю.
И, схватив шляпу, Соломин побежал к выходу. За ним молча направился и взъерошенный Рославлев. А Будищев, семеня вслед и изображая с вытянутыми руками извозчика, жужжал дурашливо пародию на его стихи:
Так высокая дискуссия закончилась комической буффонадой. Мы с Ерошиным сидели в уголку на стульях, не дыша и с удивлением взирая на грозного громовержца Еремеева. А Еремеев набрасывается на нас вдруг с раздражением:
— Эй, вы!
Урезонивал его Яков Бердников:
— Не эйкай, а дай на шкалик! Могу служить? Стихом? Могу.
Ерошин пролопотал детским голоском:
— Я — насчёт — авансика... Я печатал стишки в «Правде».
— Никаких авансов! — отрезал Еремеев, — надо, молодые люди, работать, а не гоняться за авансами! Надоели мне эти самоучки!..
— Да мы же работаем! И Ерошин работает — пишет стихи... — вступаюсь я за приятеля-самоучку, — и я, вот, принёс вам... стихотворение...
— Давайте, что там у вас?
Подскакиваю ни жив, ни мёртв к редакторскому столу, кладу пресловутое своё стихотворение, в заголовке которого крупными буквами выведено: „Посвящается Л.Ф. Пантелееву”.
— Это что такое?.. Какой Пантелеев?! — громыхает громовержец. — Никаких Пантелеевых — кадетов!
— Да это не кадет... Это — председатель Литературного...
— Надоели!.. — машет рукой Еремеев, — уходите!
И тотчас мы с Ерошиным уходим, несолоно хлебавши, — что называется, бросаемся прямо... в эгофутуризм.
Футуризм уже подгнивал в самой своей сердцевине и стремительно шёл на убыль. В Петербурге образовалось совершенно обособленное течение издыхающего кубофутуризма — эгофутуризм: «Петербургский глашатай», возглавляемый талантливым поэтом Игорем Северяниным (Лотаревым), который в стихотворном своём “манифесте”, разосланном по всем редакциям, провозглашал:
Бурлюки, Маяковский, Хлебников, Кручёных, в свою очередь, разразились проклятиями по адресу Северянина, “сутенёра”, плагиатора и саморекламиста, который, дескать, „с трудом кончив четыре класса гимназии”, кропал когда-то стишки “под Жемчужникова”, болтался потом на “вечерах Случевского”, служил подмастерьем у Фофанова и у Мирры Лохвицкой,71![]()
Кубофутуристы, конечно, перегибали палку. Дело обстояло не так. Игорь Северянин, действительно, издавал брошюрками свои стихи и рассылал их по редакциям, а всё ж это был настоящий поэт. Учился он поэтическому мастерству у Фофанова и у Мирры Лохвицкой, это верно, а лучшие его стихи «В парке плакала девочка» и «Виктория-Регия» — действительно напечатаны были впервые в черносотенном «Новом времени», что накладывало известную тень на репутацию поэта. Но в „саморекламе, сутенёрстве и плагиаторстве” противники обвиняли Северянина напрасно и незаслуженно.
Первым суровым критиком Игоря Северянина, равно как и Фёдора Сологуба, был Л.Н. Толстой. Сологуба поносил Лев Николаевич, по передаче корреспондента «Русского слова», за пошлые кражи из «Отче наш», а Северянина за «Хабанеру II», которая начиналась так:
— До чего это глупо и противно! — возмущался Л.Н. — в деревнях люди голодуют, а в городах пошляки восклицают: вонзите штопор в упругость пробки!.. Стыдить их надо за это!
Прочитав в газете этот толстовский отзыв о себе и о Северянине, Фёдор Сологуб, в отместку Льву Николаевичу, приглашает к себе на квартиру Северянина, со всеми его 69-ю брошюрами стихов, выбирает из них лучшие стихи, даёт сборнику название «Громокипящий кубок» (заимствованное у Тютчева), пишет восторженное предисловие к сборнику и отсылает его в Москву к знакомому издателю «Грифа» — поэту Сергею Кречетову. Книга издаётся и “разлетается” буквально в один месяц. И в одно из утр Северянин проснулся знаменитостью, потому что все газеты кричали о нём, как о гении!
И. Северянин писал:
Свидетелем, а возможно, и невольным виновником всей этой истории пришлось быть мне потому, что, как признавался потом сам Северянин, его натолкнуло послать впервые брошюры своих стихов Толстому в Ясную Поляну моя переписка с Львом Николаевичем по поводу книжки «Говор зорь» и письмо ко мне Толстого, напечатанное в «Вечерней Биржовке».73![]()
Уж если Толстой, дескать, пишет письмо какому-то Карпову, так напишет и Северянину. Но Лев Николаевич, вместо письма Северянину, вдруг по поводу его стихов и стихов Сологуба разразился гневной отповедью. Это попало в газеты. Задетый за живое, Сологуб поднимает Северянина на щит, чтобы доказать неправоту Толстого. И доказал!А что до футуризма Северянина, то Сологуб оправдывал и это. Как-то при встрече со мной Сологуб говорил:
— Если подразумевать под словом ‘футуризм’ взрыв чувств, вдохновение, новые горизонты, новую, дотоле неведомую красоту — каждый поэт футурист, иначе он не поэт. Пушкин, Лермонтов, Тютчев, Фет, вдохновенно зажегшие столько новых и манящих зорь, нашедшие столько смелых путей к предвечной красоте, пользуясь для этого загадочными, новыми, неожиданными словами, оборотами речи, намёками, — футуристы в подлинном смысле, и было бы ложью и оскорблением памяти великих поэтов называть их просто стихотворцами, сочинителями, виршеплётами и т.д., как это делалось прежде (Писарев), да и теперь делает нигилистическая критика. Так называемые трезвые, то есть ограниченные реалисты и натуралисты любят ссылаться на Толстого, Тургенева, Гончарова, Достоевского: вот, мол, реалисты. Но прочтите любое описание весны, пробуждающейся природы у Толстого, у которого всё дышит вдохновенным чуством, прочтите «Клару Милич» Тургенева, не говоря уже о гениальном Достоевском, соприкасавшемся “мирам иным” — ради бога, где же тут реализм?
Пора понять дыромоляям-натуралистам и “реалистам” в кавычках: все поэты — провидцы и футуристы-будущники. Но, впрочем, дело не в кличках и ярлыках. Игорь Северянин не оттого ведь песнопевец-поэт, что объявил себя эгофутуристом, а оттого, что провидение вложило в него при рождении душу поэта. Я, сам поэт-провидец, встречал его стихи ещё задолго до пресловутого “эгофутуризма”, когда поэт выпускал “тетрадь” тридцать третьего тома двадцать четвёртого” (что-то в этом роде), стихи эти были так же ярки, оригинальны, трогательны, как, скажем, и теперь. Но критика — “служанка гражданственности” — замалчивала их. Это было обидно, и можно извинить поэта, что он решил пойти на дерзость, на крайность, даже на скандал, чтобы добиться внимания. Именно этим и объясняется его величание себя „гением”, печатанье на обложках книжек сногсшибательных извещений о том, что „светозарный Игорь Северянин принимает интервьюеров 40 тысяч! тогда-то и там-то”. И этим же объясняется его — то “приклеивание” к себе, то “отклеивание” эгофутуристического ярлыка (несколько раз он вступал и выходил из кружка кубофутуристов). Теперь, кажется, основательно утвердился в эгофутуризме. Что ж, если эгофутуризм — не ярлык, то его можно приветствовать. Поэт всегда должен быть индивидуальным, то есть внутренне свободным, должен творить, не связывая себя никакими путами. А уж судьба позаботится, чтобы достояние поэта сделалось всенародным, ибо поэзия — дыхание неведомого. Народ ли не поймёт поэзии, пусть и неясной, но истинной? Он ли, кто живет тайнами, не постигнет поэта-провидца? Какой абсурд! Нигилисты считают бредом всю Библию, а это — сплошная поэзия, и народ ею живёт.
Всё это Сологуб изрекал тоном жреца-олимпийца, не допускающим возражений. Мне же, робкому “самоучке”, пришедшему к “маститому” за стихами для сборника голодающим «Колос ржи», — возражать не пристало.
— Северянин поднят на щит потому, что новое символическое искусство побеждает старое, натуралистическое.
Сам Сологуб способствовал успеху Северянина не только предисловием к его «Громокипящему кубку», но и своими совместными с Северяниным выступлениями перед публикой в обеих столицах и во многих городах России.
Обескураженные кубофутуристы с Кульбиным, Маяковским и Бурлюками вкупе переманили Игоря Северянина в свой стан, заставили его подписать хулиганский манифест «Идите к чёрту», где доказывалось, будто Сологуб „прикрывает свой лысеющий талант шапкой Северянина”. И он, невозмутимый Сологуб, вынужден был послать Северянину телеграмму: „Больше не знакомы”.
Наступил у Сологуба с Северяниным разрыв, который продолжался недолго. Теперь во всех газетах печатается извещение о помпезных северянинских „поэзоконцертах”. Мысль, конечно, удачная, — сдобрять публику „поэзами”. Но знает ли одарённый поэт, что тут неизбежно появятся гешефтмахеры, опошлят это дело, втопчут в грязь само имя поэта? Так оно, кажется, и случилось. Какой-то парень в “жёлтой кофте” (Маяковский), выдав себя за розового слона, примазался к поэту, и тот,
В результате желтокофтец — слон, оказавшийся „из гуттаперчи”, обделал дельце; Северянину же ничего не оставалось, как утешить себя:
Об этом Игорь Северянин теперь извещает Сологуба в своих покаянных письмах. Но Сологуб не злопамятен и всегда готов талантливому поэту его обиду простить, да уже, конечно, и простил. Кстати, Северянин должен сейчас у Сологуба быть, — чтоб “раскурить трубку мира”.
— Маяковский-желтокофтец может всех нас угробить! — будто самому себе сделал вдруг предупреждение Сологуб.
Но вот, не успел ещё остыть взволнованный разговор Сологуба о футуристах, Северянине и Маяковском — раздаётся звонок, и в кабинет к Сологубу — „далай-ламе из Сапожка”, как его называл Андрей Белый, вторгается со своими ассистентами, Вадимом Баяном и Виктором Ховиным, сам „светозарный” Игорь Северянин.
Тесным кольцом окружают они улыбающегося, стареющего Сологуба — и сам „повсеградно оэкраненный и повсесердно утверждённый” Северянин, а с ним теоретик нового течения в литературе — “эгофутуризма”, директор издательства «Очарованный странник» Виктор Ховин, “нездешний” лирикопоэт Вадим Баян75![]()
— Ну, Игорь Васильевич, как у вас обстоит дело с кубофутуристами? — спрашивает Сологуб.
— В том-то и дело, — отвечает Игорь Васильевич, — что никаких точек соприкосновения у нас теперь с кубофутуристами нет!
— Но в состоявшемся выступлении кубофутуристов, кажется, предполагалось и ваше участие?
— Да, действительно, было время, когда я считал возможными наши совместные выступления и даже выступал как-то с “желтокофтцем”, с Маяковским, на одном вечере. Но... ничего не вышло! И с Бурлюками пытался я войти в контакт. Поехали мы вместе, посетили ряд городов. Одно время держали они, эти “кубо” прилично! Но потом, как пошли они расписывать свои физиономии, как появились эти золочёные носы, — я понял, что нам не по пути. Втравил меня в это дело Кульбин, но и с Кульбиным я теперь порвал. Довольно!
— А название “футуризм” вас прельщает? — ехидствует Сологуб.
Тут выступает вперёд и подхватывает ехидный вызов Сологуба — в качестве теоретика “эгофутуризма” — Виктор Ховин, он очень резко, в выражениях, не допускающих различных толкований, отмежёвывается от „смеяльных смехачей”, то есть от кубистов. Меж кубофутуристами и эгофутуристами нет и не может быть никакой связи. При зарождении того или другого течения никто не застрахован, что не появятся спекулянты на новаторстве, которые позаимствуют новое название, — скажем, футуризм...
— Позвольте, — перебил Сологуб, — кубофутуристы появились раньше, чем эгофутуристы!
— Эгофутуризм возник в 1911 году, — изворачивался Ховин, — вне всякой связи даже с итальянским футуризмом...
— А Бурлюк с кубофутуризмом вылез ещё в 1909 году!
— Если Бурлюка можно связать с каким-нибудь из предшествовавших литературных течений, — отбивается Ховин, — то разве что с декадентством, в отношении которого — по крайней мере, насколько можно говорить о его формах в течение последнего времени — мы занимаем оппозиционное положение. Но даже декаденты-символисты расчленились на две различные группы, из которых одна ушла в сторону теоретизма, другая круто повернулась назад, к партийности и общественности. Эгофутуристы протестуют как против одного превращения, так и против другого... Мы служили, прежде всего, свободному искусству, не знающему других лозунгов, кроме творческой свободы. Поэтому наша школа и сводится, прежде всего, к отрицанию какой бы то ни было школы. Эгофутуристы интуитичны, они интуитивно воспринимают творчество, индивидуально оценивая его каждый по-своему...
— А что тут нового? — издевался Сологуб. — Каждый барон по-своему с ума сходит... Как вы смотрите на речетворчество, скажем, Хлебникова? Я, например, нахожу, что его «Смехачи» — талантливая вещь.
Ховин не ожидал такого “подвоха” со стороны Сологуба. Поэтому, чтоб, в свою очередь... “подвихнуть” Сологуба, он козырнул Пушкиным.
— Я скажу, — надрывался критик. — Прекрасен Пушкин! Вы же возносите лиру Хлебникова. И мы никогда не сумеем переубедить друг друга. Ведь доказывать прекрасное невозможно. Так же интуитивно относимся мы к словотворчеству. В порыве вдохновения, в момент подъёма поэт рождает новое слово, единая оценка которого невозможна, потому что оно воспринимается индивидуально. Я, например, воспринимаю красоту новых слов Игоря Васильевича: „олуненный”, „центрит”, „озерзамок” и т.д. Однако истинное его творчество не может принимать таких форм, в какие вылилось оно у наших кубистов. У Хлебникова вы найдёте целое стихотворение, сплошь состоящее из новых слов. Это уже совершенно меняет дело. Это не та творческая жажда освежения, что родит новые формы, — это просто надуманное, нарочито проводимое экспериментаторство. Возьмите, например, это новое слово ‘Сарча-Бухра’. Как ни старайся — не возьмёшь в толк!
Загадочно отмалчивается Сологуб. Старик уставился глазами в одну точку — не поймёшь его, одобряет он своего оппонента или осуждает, — вот уж действительно „далай-лама из Сапожка”. Тогда с горячей поддержкой своего друга Ховина вырывается сам Северянин.
— “Кубо” — это шарлатаны! Шуты гороховые! — возвышает он голос. — Я тоже как-то решил одолеть писания кубистов... я посвятил им три недели, изучал, вчитывался, размышлял. Но так ничего и не понял! Почему слово ‘лилия’ должно быть заменено словом ‘еуы’? Нет, это все люди конченые, безнадёжные... Или, того хуже, просто спекулянты.
— И вот трагизм нашего положения!.. — волнуется Виктор Ховин, — мы больше, чем кто бы то ни было, ненавидим кубофутуристов! И нас-то именно и смешивают с этими обывателями, которые вздумали прийти в литературу, чтобы создать что-то новое, в то время, как у них и предъявить-то нечего... Вот ключ к разгадке всех экспериментов Бурлюков!.. Они же загубят и Хлебникова!
— Но... вы сами-то признаёте Хлебникова? — вопрошает Сологуб. — Как вы относитесь к «Смехачам» — положительно или отрицательно?
— Пока это только «Смехачи», — разводит руками Ховин. — Бурлюки стараются выехать на Хлебникове, как на розовом слоне, но... терпят фиаско.
— А что скажет Игорь Васильевич? — не унимается Сологуб.
— Бездарь! — отрубает Северянин, — у этого Хлебникова — ни метра, ни ритма...
— Ритмы — понятие неопредёленное... — крутит головой „далай-лама из Сапожка”. — Я, например, нахожу, что ваша ритмика, Игорь Васильевич, слишком примитивна... И вообще не все ваши стихи безупречны.
Опускает Игорь голову, бубнит уныло:
— Не спорю, были и у меня плохие стихи — грехи молодости... Но я никому не завидую. Кто может сомневаться в моей искренности? Поймите меня, Фёдор Кузьмич, я исстрадался.
Фёдор Кузьмич загадочно дует в седой ус (в то время он не снимал бороды и усов), молчит и вдруг, неожиданно посветлев, отпускает Игорю Васильевичу все его эго- и кубофутуристические грехи. Говорит с добродушной усмешкой:
— Прощаю вам и отпускаю, Игорь Васильевич, все ваши против меня выходки и обиды — за ваш талант. Напрасно вы его грязните всяческими крикливыми вывесками. Неудивительно, что “публика”, то есть толпа („преступно-равнодушна”) смешивает талантливых поэтов, истинных писателей и творцов красоты, с гешефтмахерами, отвергает всех и вся... Есть, впрочем, и чуткие души, что идут навстречу талантам. Истинных ценителей мало, но я уверен, что вас оценят по-настоящему и воздадут вам должное. С богом.
Было около шести часов вечера. „Светозарный” гений Игорь Северянин, распростясь со своим шефом Фёдором Сологубом, окружённый кучкой своих поклонников и прихлебателей, двинулся на Гагаринскую, в Тенишевское училище, где через час должен был состояться его „поэзоконцерт”. За гением петушком устремляюсь и я, изгой футуризма.
Зрительный зал в “Тенишевке” набит битком. В “артистической” толпятся выступающие: поэты, прозаики, артистки, чтецы-декламаторы, искатели „розовеющих слонов”. Да, это они, настоящие, неподдельные футуристы. Одни — в приличных костюмах, с раздушенными шевелюрами и подведёнными глазами, другие — в пунцовых кофтах, с размалёванными носами и лбами. Оказались тут и кубофутуристы: крикливый, востроносый Кручёных, замкнутый и сосредоточенный с размалёванной во все цвета радуги физиономией Бенедикт Лифшиц, растерянный и надутый Хлебников. Кубофутуристов, видимо, угнетал сегодняшний материальный успех: билеты не только распроданы задолго до начала „поэзоконцерта”, но ограждающий входы брал ещё по полтиннику с безбилетников. С меня не взяли полтинника — только после вмешательства самого „гения” Северянина.
„Поэзоконцерт” начинается с доклада Виктора Ховина о разложении символизма, акмеизма и кубофутуризма и о торжестве эгофутуризма. Литература жива вечнозелёной листвой новаторства. В конце прошлого века, возрождённое ещё Фофановым, по определению докладчика, новаторство в литературе процветало, пока новаторы исходили из протеста против утилитаризма в искусстве. Но едва новаторы сошли со стези индивидуализма, они сразу заблудились. Бальмонт, Брюсов, Андрей Белый — принялись за кропанье скверных политических стихов. Блок изменил своим мотивам, метнулся в народничество и сорвал свой голос. „В наши дни надо больше любить Некрасова, чем Пушкина, нужно повернуть на путь гражданственности”, — затрубили символисты. Всё это вылилось в „чудовищно-позорное” письмо Максима Горького о Художественном театре по поводу постановки Достоевского.76![]()
Этот достойнейший — футуризм и основатель его, Игорь Северянин. За аргументацией Виктора Ховина тянется в виде предательских следов ряд недоуменных вопросов. Почему символисты-новаторы именно теперь повернули „на путь гражданственности”? Что это — сумерки божков, развал душ или всплеск духа живого? Жажда гражданского возрождения, может быть, устремление к революции? Разве это не новаторство? И почему именно теперь, на новом подъёме рабочего движения, выступил Горький против инсценировки не всего Достоевского, а только тех его произведений, где выражена его „искривлённая душа”, которую, как наготу Ноя, надо прикрыть, а не выставлять наружу?
Но Виктор Ховин не замечает оставленных следов, по которым так легко прийти к несостоятельности „индивидуализма в напряжении”, каким, точно взятым напрокат графским гербом, украшает он эгофутуристов. Публика тоже мало что понимает в эгофутуристических доводах и награждает докладчика аплодисментами.
Но вот выступает „покоритель литературы” Игорь Северянин, творящий „лунофейную” сказку. Чудятся ему „росные туманы”, „липовые мотивы”, жемчужные „озерзамки”. И даже увлекается он душой города („урбанизм”), демимонденткой...
Поддужный Северянина, эгофутурист Дмитрий Крючков — аскет, келейник, затворник („надела любовь мне кровавую схиму”), любит только природу, любит лесофею и чужд демимондентке. Вадим Шершеневич ничего не знает о лесофее, он “особенный” урбанист, влюблённый не в самый город, а в столбцы афиш, в гримасы города... Пустельга! Вадим Баян себя определяет так: „Я гений, страстью опьяненный, огнём экзотики развращенный, я экзотический поэт”. Тьфу! Константин Олимпов (сын Фофанова) взывает: „В гений Олимпова верите?” И тут же сам себя обнадёживает: „Верим в Олимпова, верим!” Грааль Арельский77![]()
Дальше выступают актрисы: Степная, Садовская, неизвестно почему знаменитая Эсклармонда Орлеанская, нежная, изящная, трогательно, с какой-то подкупающей задушевностью декламирующая стихи эгофутуристов, ей много аплодируют, — особенно молодёжь.
Под конец опять на эстраде „экранится” Игорь Северянин, распевая свои „поэзы”. При начале каждой строфы он подпрыгивает на носках башмаков, а при конце притоптывает каблуком. Публика встречает его овациями. Высокая, представительная фигура „гения” выпрямляется, руками он хватает на лету кидаемые из толпы цветы. Поклонницы громко заказывают его стихи. Баритональный голос поэта всех очаровывает, и странно как будто слышать этот примитивный и заунывный напев: „Оттого, что груди женские тут не груди, а дюшес”...78![]()
В первом ряду зрителей, расписанный во все цвета радуги Бенедикт Лифшиц, „уставясь в землю лбом”, признаётся уже вполголоса немотствующему Хлебникову:
— Я пришёл было сюда затем, чтобы устроить эгофутуристический скандал. Но теперь вижу: мысль о выступлениях поэтов с эстрады... в столице... даже о поездках их по глухим городам... верна и жизненна. В древности поэты также ходили из города в город, из селения в селение и напевали жадно внимающему им народу свои саги и песни... Недостаточно прочесть про себя в книге вещь. Нужно к зрительному прибавить нечто слуховое и при том из другого мира и души, родивших поэтическую вещь, чтобы углубить смысл постигаемого. Тут простой взгляд, лёгкий жест, дрожь и тон голоса поэта может сказать стократ больше, чем бездушные буквы. Н-да!
Газеты «Товарищ» и «Столичная почта»79![]()
Ещё бушевали по отдельным городам отзвуки отошедшей грозы 1905 года. Но гребень шквала спадал. Жизнь вступала в свои берега. По захолустьям свирепствовали усмирители. Зато в Питере сдерживались, быть может, из кокетства перед Европой. „Цивилизация!”
И я ушёл в песенность. Бунтарь вышел из меня неудачный. Бунт был для меня средством, а не целью. Цель — творчество, песня. В те незабываемые дни цензура околела. Только здесь, в свободном Питере, открыл я, что был от истока дней мёртв, а теперь встал из гроба... Бег революции помог, знать, мне.
...Слагаю песни, выдумываю сказки... К чёрту пробирки! К дьяволу цепи подёнщика! „Великие поэты и изобретатели срывали покровы с тайн природы — по наитию, а вовсе не потому, что сидели прикованными к тачке подёнщины в пробирках. Творцы должны быть гуляками праздными. Удел их — творчество — это бродило жизни... Знания идут за ними, а не они за знаниями. Я поэт, а стало быть, узнаю без наук то, чего многие из учёных не знают по наукам: будущее человечества!”
Так самообольщался я наедине с собой. Свирепой мечтой моей жизни, непреоборимой как смерть, было: стать поэтом, “чародеем искусства”. То же, что в детстве — стать “святым”. Теперь я им, казалось мне, становился... Одно горе: я ещё не вполне “владел стихом”, не имел навыка “литературной”, то есть газетной речи, не был ограждён “магическим кругом” от суеты...
Что же делать? У кого учиться “тайне слова”? Как избежать бед?
Ах, чтобы “оградиться”, надо было пойти в науку к мастеру магической песни. В те времена на песнотворцев смотрели: 1) как на безумцев праздных; 2) как на жрецов неведомой какой-то науки, жителей малодоступной обители света, вдохновенных свыше; внести беспокойство в их “горний полёт” — значит, обеднить себя, свою душу... Но ведь наука не обедняет, а обогащает... — думал я. И рвался — в науку.
Был у меня незадачливый учитель, маленький поэт Л. Андрусон. Он подвизался в «Журнале для всех» Миролюбова и писал мне поучительные послания в деревню. Теперь же, в Питере, при встрече, говорил:
— Талант — это крестная ноша, до гроба нести её вам, тем более что вы самоучка... Прошли времена самоучек. Впрочем, если хотите избежать креста — ищите помощи и зашиты у гениев...
— Кто же эти гении?
— Да, вот, модернисты утверждают, что гении новой поэзии — суть: Бальмонт, Бунин, Брюсов, Белый, Блок... Все — на Б. Имена их у всех на устах. Самый юный из них — Блок, а, глядите, о нём кричат во всех газетах, художники пишут с него портреты. И даже «Журнал для всех» печатает его стихи... Значит, гений, гений, богач!.. Вот и идите к нему... в науку.
— Куда мне! — говорю, — он, видать, аристократ и капиталист; с младенчества от золотой колыбели напевали ему песни ангельские голоса. А я — бродяга-пролетарий, вырос в степных яругах, воспитывали меня волки... не поймёт он меня, да и не примет...
Рыжебородый (борода — лопатой) меланхоличный Андрусон сурово встряхивает головой, пришпоривает меня:
— Несись! Через дворцы и храмы, и медные трубы — вперёд!.. Примет юный жрец! И поможет!.. Только тут надо действовать как-то особо...
— То есть?
— Колдовством!.. Чёрт его знает ещё чем! Я знаю, нас, богему, он считает интеллигентским дерьмом... Ну, а степные колдуны, безусловно, его заинтересуют... Врывайтесь в его лабораторию! Он — научит, и сам научится... И — защитит... Он болен “народом”.
— Да разве я похож на колдуна?
— Поэту надо быть похожим не только на колдуна, но и на чародея! Признаться, когда я получал ваши заумные письма из глуши, я думал: вот, чёрт, должно, — знахарь, чародей! Проказу вылечит... Эх! Блок сам чародей. Помните:
...Весь этот разговор происходил на углу Невского и Владимирского. Андрусон завернул в кабачок к «Давыдке», а я побрёл на Заротную улицу, в ночлежку.
Итак, я “чародей”. Нас собралось несколько таких “чародеев”. Между прочим — робкий кареглазый юноша-белорус, поэт из рабочих Микульчик,80![]()
Над нами тяготело проклятие: мы были “самоучки”; уже тогда это звучало — почти как “жулики”.
И вот, эти самые “самоучки-жулики”, я и Микульчик, сопутствуемые собственными восторгами, муками творчества, самоборьбой, двинули к чародею песни — юному Блоку: он только что входил тогда в славу, “в моду”. О нём кричали газеты.
Когда на звонок из квартиры поэта вышла молодая высокая женщина в чёрном, спутник мой убежал... Я остался один.
Любовь Дмитриевна — жена Блока — встретила меня сурово:
— Чего надо?! К Блоку, что ли? Болен он!
— Блок или жизнь! — выпаливаю я вдруг, зная, что иначе не увидеть Блока. — Я хочу сказать: жизнь Блоку, а не кошелек или жизнь! Непрошеный гость — хуже татарина, но я, простите, не уйду, пока...
В передней переполох. Выбегает прислуга, ахает. Откуда-то из чулана с рёвом бросается на меня громадная собака. Сбивает с ног. Хозяйка, окинув меня гневным взглядом, шепчет в ужасе:
— Сумасшедший!
Исчезает.
На крик в переднюю выходит в халате сам хозяин — Блок. Киваю головой. С места в карьер преподношу ему одно из моих многочисленных “творений”... Но так как я перед тем не спал три ночи, ходил неумытым и потому похож был несколько на негра, то Блок принял меня за трубочиста:
— Вам — в трубу? — добродушно осведомляется Александр Александрович. — Чистить сажу?
— Я — поэт! — говорю.
— Вы поэт! Вы, кажется, чернорабочий. Судя по всему... Что вам надо? Неужели вы думаете, что быть поэтом — так просто?
— Да. А разве вы не знаете, что среди рабочих бывают поэты? И я не один.
— А кто с вами?
— Микульчик. Поэт-рабочий.
— Где он?
— Удрал!
— За деньгами пришли? Нет денег. Я не банкир!
Возмущаюсь я, а потом робко возражаю Блоку:
— Мы за советом и помощью. Деньги дело наживное. А вот песни... Этого не наживёшь, когда у тебя отнято солнце и нет дыхания.
— Кто вы сам? — допытывался Блок вновь и вновь.
— Поэт-хлебопашец, — говорю.
— Так!.. это вы тут, в Петербурге, пашете землю?
— Здесь я “бунтую” и... пою песни. Вы так и не спросили меня о них... Спросите о песнях хоть Микульчика!
— Да где же Микульчик? — смеётся Блок.
Оглядываюсь, действительно: Микульчика и след простыл... Мне оставалось одно: “заткнуть свой фонтан”, что я и не замедлил сделать. Зато собака продолжала лаять исступлённо. Под громовой этот собачий рык я и расстался с Блоком, поражаясь поэтической его интуиции насчёт денег. Грабить я его собирался, что ли?
Назавтра вечером я увидел Блока в философском обществе. Он, очевидно, не ожидал здесь меня встретить, был удивлен, но первый подошёл ко мне, протянул руку и сказал:
— Забудем вчерашнее. Собаку я вздул. Вы любите мысль? Это хорошо. Без живой мысли образ мёртв и бездушен. Но... трудно придётся вам, знайте.
И он отошёл в сторону. Я плохо понял его тогда.
И подумал:
— Всё-таки лёд!
Через неделю получаю от поэта письмо — в ответ на мое “сумасшедшее”.81![]()
Но это был самообман; Блок, при новой встрече, держался настороже. Кто-то, видать, насплетничал ему обо мне.82![]()
Тот год был годом первой поэтической славы Блока — светлой, как сон. Кто, даже из самых забитых, отверженных людей, не мечтал о Прекрасной Даме? И об этой даме запел Блок. И как запел! Земля заслушалась. Женщины — от работницы до куртизанки — вздыхали о Блоке, как о своём песнопевце, — хотя и не читали его, а знали только понаслышке. Мужчины — тоже, не читая и понаслышке — гордились поэтом-рыцарем. Вслух обзывали его сверх-декадентом и украдкой спрашивали друг друга: где бы им увидеть поэта Блока, с обликом Аполлона, и эту его Прекрасную Незнакомку? Все заговорили вдруг на языке любви. Поэт-рабочий, Микульчик, прямо-таки бредил блоковской Прекрасной Дамой. А сам пел только о народе и свободе. „Гипноз!..”
А многие смешивали поэта Блока с банкиром Блоком, чьи аршинные рекламы висели на заборах, чьи объявления заполняли изо дня в день, из месяца в месяц все тогдашние газеты и журналы... Я сам так и представлял себе: Прекрасная Дама Блока — вся в бриллиантах, — раз избранник её, кроме того, что поэт — ещё и банкир!.. Надо было увидеть её во что бы то ни стало! А банкира — Блока, — рассуждал я, — будем громить!..
Слышно, в прозаических статьях своих поэт начинает вздыхать о народе. В литературном обществе замогильным голосом прочитал он доклад «О народе и интеллигенции». Вывод один: гибель интеллигентам, будущее — за народом.
...Я опять в квартире поэта. А думы мои — не о нём. Всё о Прекрасной Даме. Блок молча шагает по кабинету.
Но, быть может, прекрасная эта дама — жена Блока, Любовь Дмитриевна? (Дочь великого учёного Менделеева.) Тогда — почему она в чёрном траурном платье? А отчего гонит всех с глаз? Ага, знаю: ревность к сопернице, прекраснейшей из прекрасных, — к той, о которой мечтает всё человечество — к богине «Незнакомке». Или к Н.Н. Волоховой, которой в альманахе «Шиповник» посвящён цикл магических стихов Блока?
Говорю с Блоком о стиле любви, об его стихах «О Прекрасной Даме», только что прочитанных им. Но он догадался, должно быть, “зачем я пришёл”. Спрятал прекрасную свою даму в отдалённой комнате... Не показывает...
— Любовь — это магнетизм сердца, а песня — магнетизм души, — говорит Блок как бы сам с собой. — Тут все начала и концы.
И спрашивает меня:
— А вы были влюблены?
— С восьми лет, — отвечаю запальчиво.
— Как её зовут?
— Тамара, — произношу почти шепотом.
А потом добавляю неожиданно:
— С тех пор влюблён и в революцию.
— Так у вас два романа? — смеётся Блок.
— И оба неудачные, — признаюсь тут же.
Участливо Блок переспрашивает:
— Значит, революционная карьера рухнула?
И заключает тут же:
— Оно, пожалуй, и лучше. Революция хороша именно как любовь, а не как профессия... Вы поэт. Ваши песни мне нравятся. Только надо избегать книжности. А вообще говоря, всем нам надо избегать карьеризма. Это — суть современных стремлений: они доведут всех до погибели! Все лезут наверх — и жук, и жаба...
— При социализме, — говорю, — этого не будет.
— Вы уверены? А я сомневаюсь. Предчувствия у меня — тревожные... Толкуют о народе и интеллигенции, о социализме и капитализме. Я склоняюсь к первой части формулы, и в этом смысле я — за народ, за социализм, за революцию... Но мне кажется, что в основе этих высоких понятий лежит борьба между отдельными личностями за право на первенство, короче говоря, — борьба за карьеру. Выход из тупика можно было бы искать в искусстве, если бы и здесь не было этого ужасающего карьеризма... Но есть строй души, возвышенный и бескорыстный, при котором каждый может иметь право на творческую жизнь... Этот строй души можно охарактеризовать тремя словами: подвиг, красота, восторг. И меня берёт сомнение, сумеете ли вы создать этот строй, вы — современные бунтари — скрытные, завистливые и жестокие? Надо человека-зверя переплавить в человека-творца... Вот задача, достойная богов! А вы творцу готовите намордник...
...Так говорил юный поэт Блок уже в начале 1907 года.83![]()
Как-то при встрече в одной из редакций Блок роняет вскользь мне:
— Читал ваши стихи в «Новом свете». Книжные... Но — понравились.
...А я молчу. Вздыхаю сокрушённо.
Тогда, чтобы ободрить меня, Блок дарит «Стихи» — оттиск из какого-то журнала с трогательной надписью.
И в заключение напутствует добродушно-строго:
— Писать вы научились, а жить — не научились...
Вывод: самое трудное искусство — это искусство жизни. Кто научился жить в подвигах, в восторгах, в любви, в красоте, тот научился творить.
Творчество — не от науки, а от души в преемственной связи с прежними творцами, и сам Блок, по его словам, ни у кого из современников не учился словесному мастерству, хотя и кончил университет. Но он учился у Пушкина, у Фета, у Владимира Соловьёва, у своей души — ибо „песня — это магнетизм души”.
Там, внутри, поэт создал свою жизнь и, опьянённый восторгами, творческим подвигом, любовью, главное — любовью, воспел красоту — в образе юной Прекрасной Дамы...
Александр Александрович, шагая из угла в угол, говорит, говорит вдохновенно, как бы в забытьи. Жду: когда же выйдет Прекрасная Дама, что одарила, опьянила поэта навеки великой любовью? Слушаю и с трепетом жду...
Но Прекрасной Дамы нет как нет! Ушёл я ни с чем. Уже после я увидел её, кажется, в артистической театра В.Ф. Комиссаржевской. Незнакомка стояла под руку с Блоком, молчаливая и неподвижная, как изваяние. Это была Н.Н. Волохова, юная “актриса настроений”.84![]()
О да! Рыжая, в веснушках...
У Блока началась пора увлечения театром. В театре Комиссаржевской шёл его «Балаганчик». Лиро-ироническая эта одноактная пьеса-поэма у публики успеха не имела. Но газеты продолжали кричать о Блоке. Сам Блок окунулся в пряную атмосферу кулис, — его окружали эффектные дамы-аристократки, поклонницы его таланта, юные актрисы, учащаяся молодёжь. А когда с избранницей сердца мчался он на лихаче к Островам — ему было, конечно, не до народа.
...И вот, рушились самообманы мои один за другим.
С Блоком больше я не встречался тогда. По вечерам и по утрам, дома, на Галерной, хранили Блока домашние его за семью печатями. Предположение многих насчёт блоковского “банка” так и остались предположениями. Опустошать несгораемый шкаф “банкира” Блока или брать с него выкуп, в чём, вероятно, заподозрили меня домашние поэта, мне не пришлось. Домашние эти так и остались в убеждении, что я приходил к “банкиру” Блоку, а к не поэту Блоку. И приходил именно с целью грабежа.
Потеха!
Позже я узнал: дело тут не только в домашних Блока. Он был главой дома. Из родных на него могла влиять разве только мать, обаятельная и глубоко образованная женщина. Но она благоговела перед любимым сыном, знаменитым сыном, и ни в чём ему не перечила. Вообще же все домашние боготворили Блока. Воля его для них была законом.
Значит, отвращение к реализму, к изнанке жизни таилось в нём самом. Он жил мечтой, видением иных миров, а на повседневный быт смотрел как на постылую лямку, от которой надо бежать. Блок сам не хотел “компрометировать” себя знакомством с простыми людьми “с улицы”, какими представлялись ему тогда разные там чумазые самоучки, искатели новых вер и истин в чуйках, и т.п. Он погружался в поэтические грёзы; кипучая его юная жизнь пожинала в свете плоды головокружительного литературного успеха.
Да, он обладал редким богатством — духовной и физической красотой — той красотой, о которой говорят, как о даре небес. И каждый из наблюдательных людей, кто впервые встречал его в толпе ли, или с глазу на глаз, говорил сам себе, поражённый:
— Это — поэт!
Но везде, в интимной беседе и на людных собраниях, Блок не заносился и был предельно скромен. Когда в московском журнале «Золотое руно» появился известный его портрет художника Сомова, воспроизведённый в красках, — совершенно незнакомые девушки-гимназистки, встречая поэта на улице, шептали восторженно:
— Да это ж Блок! — а он загадочно глядел в одну точку и проходил молча, с тростью, в чёрном, застёгнутом наглухо сюртуке, в белых перчатках. Только лицо его заливал румянец. О женщинах, которые его знали, говорить нечего, — они поголовно были влюблены в Блока.
Конечно, и я был влюблен в поэта. Но можно ли было думать о помощи с его стороны, о его участии в моей страшной судьбе?
Я понял, что тут никакое колдовство не поможет. Блок недоступен не для одного меня. Душа его закрыта для всех. Мне же оставалось только радоваться его бытию и как можно реже встречаться с ним.
И я старался следовать этому правилу и даже при случайных встречах на улице не решался кланяться ему. Он как будто этого не замечал. Но раз, на Морской, остановив меня, спросил:
— Вы всё ещё в Питере? А как же насчёт пахоты?
Било ярыми лучами апрельское солнце. Не в бровь, а в глаз! Провалиться бы мне на тротуаре! Но я огрызаюсь угрюмо:
— Я с восьми лет ломал свои кости на пахоте... А теперь, ежели охоту маете, — то пашитесь вы! Благо, у вас есть земля, а у меня — ни клочка. Безземельный я!
— Пробовал. С вялыми мускулами — не выходит. Всё это — бирюльки. И у Толстого, думаю, это только блажь. Вы — другое дело!..
— Да, вот, — говорю, — мне надо писать стихи, рассказ, а меня гонят в Яруги, на пахоту... Тьфу!
— Ну, так пишите стихи — только хорошие. Это — не легче.
— С голоду-холоду хороших стихов не напишешь.
— Кто ж тогда вам поможет?
— Никто — каждый занят собой.
— Вот, ежели вы сумеете помочь другим, тогда и вам помогут. А пока — езжайте в деревню. Я тоже скоро поеду. Весна!
— Счастливый вы человек — что вам народ! — улыбаюсь я.
Блок нахмурился. Говорит медленно, чуть-чуть шепелявя на шипящих звуках:
— Сейчас слишком много говорят о народе. Праздные разговоры. Одни смотрят на народ, как на стадо, удел которого, по Пушкину... „Ярмо с гремушками, да бич”. Другие — как на способного перевернуть всех вверх дном и посадить наверх смекалистого какого-нибудь проходимца... Третьи — сулят народу золотые горы, а сами под сурдинку норовят урвать с него хотя бы “ушко”. Сплошное очковтирательство! Я знаю: народ — большая тема. Я не раз брался за неё. Но, чувствую — не моя тема. А живу я с крестьянами, в Шахматове — село под Москвой, — хорошо. Правда, они кое-что тягают у меня из усадьбы, но это пустяки.
— У Некрасова — основная тема... — говорю я, — он любит народ!
— А стихи Некрасов писал дубовые... — возражает Блок. — Фет назвал его псевдопоэтом — и он был прав. Некрасов был хитрый ярославец, знал, где раки зимуют. Когда крепостничество изжило свой век, и назрели великие реформы, он забил в свой барабан, пустил слезу о мужике... но что он делал сам в Карабихе — селе, выигранном им у помещика в карты? Бил неугодных ему мужиков палкой! Вот вам и народолюбивец!
— Неужели это правда?
— Я сам был бы рад назвать это клеветой, но, к сожалению, это — правда. Конечно, это личные, домашние дела Некрасова. Но они всплыли...
Мы прошли почти всю Морскую, потом пересекли Сенатскую площадь и завернули на Галерную, где находилась квартира Блока. Блок все говорил о народности в литературе, — очевидно, это было его больное место. Псевдопоэзию, подделку под народность, он, конечно, отвергал. Во всей русской литературе настоящей народной поэмой он считал только «Песню про купца Калашникова» Лермонтова, да ещё «Сказку о рыбаке и рыбке» Пушкина.
— Вот где вылеплен национальный русский характер — в Калашникове! — восхищался Блок. — А какая поэзия! И что же? Лермонтов создал народную поэму, но он глубоко презирал народ. Ну, пока!
У дверей блоковской квартиры мы расстались. Надолго — почти на восемь лет.
Время! Время! Кто тебя выдумал? Зачем ты, страшное, невидимое и несуществующее чудище, создаёшь и опустошаешь миры? В тебе зажигаются и гаснут солнца вселенной, и движутся эти солнца-песчинки к неведомому свету, а за ними, кружась, влекутся их осколки — планеты-пылинки. И на одном из этих осколков-пылинок, на Земле, лучи близкого солнца вызывают к жизни миллионы тварей. И через короткий срок разложение их пожирает. То, что было жизнью для одних, — для других стало смертью. Так вот! Ты — выдумка смерти, не живущее время! Поэт победит и тебя, время, и твою родительницу — смерть!
Говорят: времена меняются, а с ними — всё меняется. Нет, нет! Душа человеческая неизменна и вечна... И в бессмертном сонме душ, живущих и отошедших, души поэтов говорят извечной юностью и красотой. Так горит душа юного Блока.
Эта строфа родилась у Блока во сне... Как-то в одну из товарищеских встреч, говоря об этих стихах, вспоминал и как бы напутствовал глухо Блок неизвестно кого. Он говорил:
— Я пишу стихи с детства, а за всю жизнь не написал ни одного стихотворения, сидя за письменным столом. Бродишь где-нибудь — в поле, в лесу или в городской сутолоке... И вдруг нахлынет лирическая волна... И стихи льются строка за строкой... И память сохраняет всё, до последней точки. Но иногда, чтобы не забыть, записываешь на ходу на клочках бумаги. Однажды в кармане не оказалось бумажки — пришлось записать внезапные стихи на крахмальной манжете. Не писать стихов, когда нет зова души, — вот мое правило. А когда ржавеет душа — исторгни её и обнови, и озари — любовью! И стихи тогда будут слагаться даже во сне.
В ранней юности пережил Блок смерть любимой девушки. Душа была окровавлена... Раз, одержимый тяжкими думами, поэт заснул глубоким сном. И видит во сне: душа его отделяется от тела, озарённая, несётся ввысь. И поэт встречает Деву Радужных Врат. И слышит он дивный голос:
— Ты — астраль. Отныне время для тебя исчезло!
Потом — срыв в бездну. И косноязычный вопль: „О, исторгни ржавую душу!” и т.д. И пробуждение. А душа уже была полна таким озарением, которое запылало на всю жизнь!..
...Таким-то вдохновенно-юным и озарённым остался и в моём сердце Блок.
Страшная моя жизнь продолжала меня терзать. Но я боролся и знал: есть, для кого бороться, нести свою душу ввысь.
Скоро в стихах Блока зазвучали трагические ноты, а в статьях — тревога за будущее человечества. Судьба уготовила поэту роковую роль пророка, теурга. И он знал, что пророков побивают камнями. И всё же — пророчествовал. А его не понимали. Новые пьесы его, полные благоуханной поэзии, театрами отвергались. Мы, не встречаясь, продолжали переписываться: он присылал мне все свои новые книги с трогательными надписями и даже стихи свои, собственноручно переписанные. А восторженного Блока уже не было. Вот, например, его стихи, присланные мне в одном из писем:
Стихи эти потом были напечатаны в двух журналах, но ни в одном из них издатели-жулики не заплатили гонорара Блоку. И он жаловался:
— Стихами я зарабатываю не больше пятнадцати рублей в месяц. Везде надувают! А книги свои я сам издаю... за редким исключением... себе в убыток!
Заработок (и врагов) доставляли ему критические статьи. Он громил тогдашних корифеев, уничтожал мелюзгу, требовал литературы „высокой и незлободневной”. Бальмонтовские конъюнктурные стихи объявлял „отвратительной галиматьёй”, а своего друга Белого окрестил „кликушей”, „юродивым” — за то, что тот вдруг выбросил клич: „назад, к Некрасову!” (Позже Белый заявлял печатно: „Хочу писать, как сапожник”.) Всё это обескураживало Блока. Замкнулся он и загрустил, хотя в душе своей был юн, прекрасен, неизменен.
По поводу моей книги «Пламень» Блок писал: „Россия, вырвавшись из одной революции, глядит в глаза другой — более страшной и неумолимой”. Когда началась первая мировая война, он уже знал, что катастрофа и в личной, и в общественной жизни неизбежна. И часто цитировал Достоевского: „Вот идут мужики и несут топоры — что-то страшное будет!” — И уходил сам в «Вену» или к «Давыдке» (литературные кабачки).
Внешне Блок изменился до неузнаваемости. Роскошные его пепельно-каштановые кудри высеклись, на лице обозначились резкие черты, глаза отливали недобрым стальным блеском. Он ходил уже подстриженным накоротко, одетым небрежно, “под рабочего”, в простом демисезонном пальто и старых брюках “с бахромой”. Шли какие-то разговоры о семейной его драме, о бесповоротном разрыве с Н.Н. Волоховой, о новой страсти Блока — оперной актрисе Дельмас. Но никто не мог разгадать, что носил в душе своей поэт.
...Был помпезный литературно-художественный вечер в пользу раненых. Выступал весь цвет тогдашней литературы. Большой зал городской думы, на Невском, не вмещал огромной массы публики, пришедшей на концерт. Стояли в проходах, на подоконниках, в открытых дверях, в фойе. Молодёжь взбиралась на канделябры, чтобы лучше видеть. Когда, после прозаиков — Л. Андреева, Куприна, Бунина, Сологуба, на сцене показался рассеянный и как бы омраченный Блок, в зале раздались рукоплескания. Глухим, каким-то поддонным голосом прочитал он свои шедевры — «Русь» и «Осеннюю волю». И — тишина. Ни одного хлопка!
— Прочтите что-нибудь новое! — раздались голоса. — Новое! Новое!
Быстро и молча сошёл Блок с эстрады и направился в артистическую. В дверях встретила его высокая стройная женщина, красавица, с живыми ромашками в пышных волосах цвета багровой зари, в золотистых кружевах, с обнажёнными руками, плечами и шеей — такой ослепительной белизны, что глазам становилось больно.
— Плохо читали, поэт, не дошло! — говорила она тихо и улыбалась щедро, беря руки Блока в свои. — Разве так можно читать? Да ещё в огромном зале! Загробный у вас какой-то голос! Нехорошо. Надо вам брать уроки декламации...
Блок двинул плечами, смущённо улыбнулся, закурил папиросу, но не проронил ни звука. Красавица продолжала журить поэта. И так как публика пялила на обоих глаза, и слышались шёпоты: „Дельмас, Дельмас”, — то они скрылись за дверью, в артистической.
А как раз в это время в зале каким-то обвалом ухнул и взгрохотал страшный шквал топотов, рукоплесканий, криков, точно рушилось здание, и люди взывали о спасении. Из артистической все кинулись в зал. Даже Блок.
Но что тут, в зале, творилось! Вся масса людская сотрясалась в бешеном урагане оваций, восторженных выкриков, буйного смеха, счастливых слёз! И виновником всех этих исступлённых восторгов был. Северянин. На него каскадом сыпались цветы, брошки, какие-то сувениры, — галстуки, платки...
— Слава Игорю!.. Сла-ава-а!.. — ревела толпа. — Уррра!..
А Игорь, высокий, представительный “денди”, в модном сюртуке, с орхидеей в петлице (чёрт его знает, где он её достал), покачиваясь кокетливо на носках, истекал в пошловато-бравурном напеве:
Молодёжь продолжала неистовствовать. Под конец публика ринулась на эстраду, окружила своего кумира, понесла на руках куда-то в фойе... Корифеи, хватаясь за головы и давясь смехом, хлопали Игорю вслед, удивлялись:
— Чем он берёт, аллах ведает! Небывалый успех!
Один только Блок стоял, неподвижный и грустный, и молчал. Потом, заметив меня, стоящего почти рядом, проронил насмешливо:
— „Даже стоя идёшь” — дальше, действительно, идти некуда! Вот вам и народ! Что вы скажете? Балаган! Лубок!
— Балаган — это громоотвод геройства... — ответил я чьим-то чужим изречением (забыл чьим).
Ушёл Блок с этого вечера подавленным и одиноким.
Около этого времени из Москвы, прямо из университета Шанявского, приехал девятнадцатилетний Есенин в Питер.87![]()
— Почему вы пришли именно ко мне? — спросил Блок.
— Как к первому нашему поэту... народному!.. — забормотал робко Сергей Есенин. — Я тоже пишу стихи... Вот!.. Может, проглядите?.. Посылал в редакции — не печатают... Может, поможете?
— Я? Народный?.. — улыбнулся Блок, — непонятно! Вы крестьянин? Стихов ваших читать сейчас не могу... занят по горло... Вряд ли могу быть полезным для вас...
— А я-то думал... — пыхтел Есенин. — Вы поэт и я поэт.
— Гм... — задумался Блок. — Поэт!.. Если вы уверены в этом, так что же я? Ищите опоры в жизни и не распыляйтесь... чтоб не развеял вас ветер... Одним стихом божьим не проживёте... Вот, если хотите, дам вам адрес одного поэта... Забияка!.. Написал настоящую книжку, высокую и незлободневную — «Ярь». Слыхали? Сейчас он пишет плохие стихи, и лучше бы он их не писал... Но он практический человек... Где-нибудь вас пристроит... Я поговорю с ним по телефону... Ну, пока...
— Сергей Городецкий — это который «Сретение» написал? Да ну его! — взметнулся Сергей Есенин. — Погодите, Ляксандра Ляксандрыч, дайте на Вас поглядеть... У нас на Рязани вас бы на руках понесли!..
Опечалился Блок. Вздохнул горько:
— Зачем вы это говорите! У вас на Рязани читают «Песенники» да «Сонники» Сытина. А таких, как я, — побивают камнями. И пусть! Сейчас идёт война, а потом будет революция... и мечтателям тогда — конец!
Так и произошло. Сергей Городецкий поднял Есенина на щит. И сразу тот прогремел. Но через год-другой грянула революция. Старый мир полетел вверх тормашками. Блок приветствовал новый мир; создал поэму «Двенадцать» и «Скифы», призывал „слушать революцию всем сердцем”. Но нужно было не только слушать, а и делать, — чего он не мог или не хотел.
После Октября встречался я с Блоком несколько раз. И каждый раз он задавал мне один и тот же вопрос:
— Вы большевик?
А его не надо было спрашивать. Юная душа его, казалось, отделяется от бренного тела, летит ввысь, где „будет жить и будет видеть Тебя, сквозящую вдали, чтобы только злее ненавидеть пути постылые земли”. И ни в какой партии он не состоял, но во время бунта левых эсеров отсидел что-то в каталажке, в Питере. Своих стихов больше не писал. Занимался переводами.
В последнюю, предсмертную встречу в Москве, на концерте в Политехническом, запомнился мне Блок отрешённым, как бы почившим от всех своих дел. Точно выходец с другой планеты, стоял он на подмостках и пристально всматривался в разношёрстную публику. А как раз против него, в первом ряду, развалясь, сидел в цилиндре и лакированных башмаках Сергей Есенин и грозил ему кулаком. Блок закрывал лицо руками...
...Но возвращаюсь к дням моей юности, к первым незабываемым встречам с Блоком. Не удосужился он помочь мне тогда — из-за любви.
„Куда теперь идти? — думаю. — Питер все бока вытер! Беда!”
— Идите куда глаза глядят... — отвечал Блок.
...Попадаю в гигантский корпус „на берегу Невы” (вернее, Обводного). Прямёхонько на резиновую фабрику «Треугольник». Подёнщиком, с платой восемь гривен в день. Но и это клад. А нежное имя Блока — в душе. “Тайну слова” не бросаю и тут. Под чистку ржавых грязных шин строчу стихи тайком, собираю кое-какие “факты” из заводской жизни. Стряпаю заметки, наброски для рабочей хроники в «Новой газете». Печатают. Просят ещё приносить. Обещаю сногсшибательный рассказ, приношу, получаю аванс в целых двадцать рублей: победа, чёрт побери! Вот что значит — Блок!
Но некий консультант «Новой газеты», единственный непререкаемый знаток рабочей жизни, прочитав мой рассказ о рабочем-забастовщике, журит меня строго:
— Брось якшаться с декадентами!
Суть в том, что у меня было письмо от Блока, с Блоком ведь я был знаком порядочно уже... не на шутку! Об этом проязычиваюсь тут в разговоре.
— Блок нам не указ.
— А рассказ?
— А я и говорю, что декадентский рассказ... Рабочую жизнь я знаю, так не бывает. «Новая газета» — не «Весы».
— А ежели... рабочие подымутся, восстанут... Скажете тогда, что так бывает?
— Там видно будет. А Блоком нам очки не втирайте.
На том и покончили. Во всяком случае, больше мне авансов не давали.
...Из заметок не стоило огород городить. И вообще не мог я, поклонник и глашатай Блока, из-за своей рабочей хроники продержаться на заводе долго. Меня попросили для поэтических и репортёрских „прогулок выбрать подальше переулок”.
Так, вместо помощи, загадочное и гордое имя Блока принесло мне в жизни только потери.
У Блока были необъяснимые странности, которые ему нельзя было бы простить, если бы не его великий талант. Он преклонялся перед точной наукой, а в то же время был верующим и не скрывал религиозных своих тенденций. Мать его, урожденная Бекетова, гордилась тем, что сын её, знаменитый поэт, жил “в страхе божьем” и одарён был “свыше”. Сам Блок торжественно провозглашал, что талант у него “от бога”. Но наряду с этим — богохульствовал, увлекался “чертовщиной” и эксцессами низшего порядка. Для него ничего не стоило, например, воспевая Прекрасную Даму, зайти в публичный дом и провести ночь с проститутками. Он считал себя „анархистом в душе”, а мог дружить с полицейскими и попами.
В Петербурге он любил посещать Исаакий и Казанский соборы. В Москве ходил в маленькую древнюю церковь, где находились его, как говорил он, „помощницы и покровительницы” — иконы: «Богоматерь», «Нечаянная радость». Там совершал он свой „светлый обряд”. И вот откуда название самой лучшей — второй книги его стихов.
Когда в Петербурге в религиозно-философском обществе обсуждался вопрос о соединении веры и знания, религии и науки, а учёные-богословы возмущались “оргиазмом” русских сектантов-хлыстов, Блок выступал на защиту сектантов, называл их „поэтами” и доказывал, что все истинные поэты — оргиасты.
Так как я сам был немножко “хлыст-сектант”, о чём проговорился Блоку, то он мне дал совет — ехать в Москву, отыскать там знаменитый трактир «Яму», где встречаются хлысты-сектанты с религиозно настроенными интеллигентами, и погрузиться в „экстаз зауми”. Вот, дескать, материал для поэтического творчества! Блок это испытал, и отсюда его первые стихи и статьи о Руси, о народе и интеллигенции.
— А жить чем, Александр Александрович? Надо ж жить же!..
— Важно творчество, а не жизнь, — отвечал он. — В этом и отличие человека от орангутанга, заработок можно найти в любой газете.
Война войне! Отечество в опасности! Священный очаг поруган! Мы, поэты, на всё это наплевали. Отечество выдумали жулики — из тех, что живут в тёплых квартирах, пьют дорогие вина и чешут от безделья языки, выдавая это чесанье за высокую политику. К чёрту! Для бездомных отечество — весь мир.
А много ль надо поэтам-бездомникам! Краюха хлеба, солёный огурец, добрая чарка сивухи, мимолётная дружеская встреча и — песни, песни... Да ещё — весна.
В кабачках-подвалах, средь глубокой городской зимы, бредили мы о весне...
Из тогдашних литературных кабачков особой “популярностью” пользовалась «Бродячая собака». Вскоре эта “собака” издохла: прихлопнули. Пока гнил её труп, бродячие собачники хотели открыть там же, на Марсовом поле, «Привал Комедиантов»88![]()
До хрипоты тут ратовали за отечество “властители дум”: писатели, приват-доценты, адвокаты... Из старых поэтов подвизались: Бальмонт, Фёдор Сологуб (с женой Анастасией Чеботаревской), Блок, Вячеслав Иванов, Максимилиан Волошин, Михаил Кузмин, Игорь Северянин, Алексей Ремизов, Сергей Городецкий, Алексей Толстой, Гумилёв, Анна Ахматова. Околачивалась тут и мелюзга.
Но музы молчали, потому что разговаривали пушки. Редакторы требовали патриотических песен. Из номера в номер в бесчисленных журнальчиках печатались эти песни. А солдаты упорно распевали: «Крутится, вертится шар голубой», «Вы не вейтеся, чёрные кудри» и «Соловей, соловей, пташечка». Под конец, по требованию начальства, запели патриотические стишки «За Русь святую» и «На германском берегу». И тут сразу скисли — солдаты-то.
Агитки, оказывается, производили на солдат обратное действие.
Сами агитпоэты, мобилизованные на войну, предусмотрительно и заблаговременно окопались в глубоком тылу. Маститые, в панике, пёрли больше в “земгусары”. Мелюзга пристраивалась в санитарных частях, в трофейных комиссиях.
Одни не хотели идти на войну — и шли. Другие рвались в бой за отечество — и оставались дома. А все вместе, глуша очищенную политуру (водка по случаю войны была запрещена) — умилялись народом-богоносцем, который „без науки все науки прошёл” и ныне спасает человечество от гибели.
Гумилёв, понюхав пороху добровольцем-кавалеристом на фронте, был другого мнения о народе-богоносце. Он говорил на одном из закрытых вечеров:
— Русский народ по природе своей — разрушитель и самоистязатель. Он, этот народ, не только не спасёт человечество, но и себя погубит с безумием скорпиона, жалящего себя в голову. Вот увидите! Я достаточно насмотрелся на фронте. Сожрёт он и себя, и нас, вожаков — ибо мы, поэты, вправе называться вожаками своего народа... Дрянь народ, что и говорить! Да и мы не лучше...
Сологуб возражал высокомерно:
— Вы, господин Гумилёв, судите по себе! Надо всем ехать на фронт и там сражаться, а не гастролировать по тылу...
Но он, Сологуб, оставался всё-таки в тылу, ссылаясь на свой преклонный возраст.
Молодые поэты открыто бахвалились, что им нечего спешить в „шрапнельный дым”. Гумилёв при встрече с ними улыбался насмешливо и победоносно, щеголяя крестами, заработанными на фронте...
Но, по его же словам, он глубоко презирал „народ-самоистязатель”, а народной армии предпочитал „дружину храбрых”.
Жена Гумилёва, Анна Ахматова, напротив того, благословляла народ. Говорила томно:
— Если музы молчат, прислушивайтесь к языку стихий, к голосу народа...
В «Привале комедиантов» состязались два ведущих поэта: Игорь Северянин и Владимир Маяковский. Один славил войну, другой её проклинал. Уже тогда поэзия разделилась на два лагеря: патриотов и революционеров.
Поэтесса-революционерка Лариса Рейснер89![]()
А в промежутках меж этими поэтическими стычками артистки-гостьи (балерина Карсавина, певица Липковская, мелодекламаторша Тиме, Ковалевская) — неожиданным своим обаянием, красотой, юностью, чарующим искусством — навевали золотой сон... И тогда поэтам казалось, что они рвутся в бой за настоящую нетленную правду и уже „видят ангелов и небо в алмазах”...
Теософки заводили канитель об „углублённом знании”. Маяковский — стремительный, саженный, с тусклыми ожесточёнными глазами, с выпяченным упрямым подбородком, крепкоголовый верзила-горлопан в жёлтой кофте — крыл теософок матом. Игорь крыл всех „изысками”. От изысков тошнило не меньше, чем от Маяковского мата и теософского бреда, но публика глотала всё без разбора.
Затевалась игра: кто король поэтов?
Это было нечто вроде тотализатора.
Толпа тосковала по новым гениям — „розовым слонам” — и готова была произвести в “короли” первого попавшегося смельчака, достаточно расторопного и нахального, чтобы он мог играть роль гения. А тут, как-никак, всё-таки поэты!
Началась гонка двух “ведущих”. За карьеру Маяковского зычными глотками агитировали Бурлюки. Карьеру Северянина упорно возводил в мечту Фёдор Сологуб.
Но тут надо возвратиться несколько назад.
Одно время Давид Бурлюк — сам “самоучка”, только что выплывший на поверхность творческой жизни, — собирался возвести если не в гении, то в “метры” какого-нибудь дикаря-самоучку “нового типа”, с такой биографией, которая „перешибла бы биографию Горького”. Раскосый, но цепкий бурлюковский взгляд остановился на „поэте из деревни, поэте-сектанте”. Но якшанье этого поэта с подпольщиками, а с другой стороны, появление его стихов в академической «Ниве» — разочаровало “основоположника” кубофутуризма. Тогда основоположник уехал в Москву, надумав искать “самоучку” нового типа — там.
Среди учеников московского Строгановского училища обретался юнец-художник, задира и коновод — Маяковский. Несмотря на свой семнадцатилетний возраст, он уже выступал на диспутах, декламировал свои стихи, ломал стулья. Давид Бурлюк, завербовав юнца, сразу же поднял его на щит.
Так, почти походя, испечён был новый гений. Но Давид Бурлюк, как всякий опытный делец, не сразу провозгласил Маяковского гением. Перед этим он возвёл в ранг мировых поэтов Велимира Хлебникова. В своей публичной лекции «Пушкин и Хлебников» он прямо так и бухнул: „Хлебников глубже и выше Пушкина”. Никто Бурлюку, конечно, не поверил, но в газетах поднялся крик — а это и нужно было “основоположнику”. Теперь он мог заставить себя слушать.
И вот, обретя юнца-гения Маяковского, Бурлюк вместе с Василием Каменским и тем же Хлебниковым принялся за обработку публики.
Саженные афиши извещали о выступлении „мастера-деревообделочника” Маяковского (имелись в виду деревянные головы обывателей), о новой эре в поэзии и т.д. Билеты раскупались нарасхват, в день выступления Бурлюк внушал Маяковскому:
— Смотри, Володя, не подведи, я тебя разрекламировал, как гения, — “дрейфить” ты не имеешь права.
И Маяковский не “сдрейфил”. Он — безусый, желторотый юноша, выступил не только как поэт, но и как блестящий, остроумный оратор, доказав, что „деревообделочник” действительно в чём-то может усовершенствовать деревянные головы.
С той поры звезда Маяковского, взойдя на тусклом небосклоне кубофутуризма, разгоралась всё ярче и ярче. Посыпались доклады о „деревообделочнике”, диспуты, статьи... Москва оказалась тесной. Василий Каменский звал в Петербург.
Двинули в Питер — „в столицу государства российского” (из афиши). В театре Комиссаржевской, в Питере, поставили “трагедию” под названием «Владимир Маяковский». Главную роль в ней играл сам юнец-автор — Владимир Маяковский.
Публика, ничего не понимая, надрывала животы. Бурлюки сочли это за успех. После спектакля отправились в «Вену», где Маяковскому преподнесли венок, заказанный Бурлюком накануне. Маяковский принимал славу, как должное. Нужно отдать ему справедливость — играл он “под гения” великолепно. И в дальнейших своих выступлениях остался верен себе, костил розу и соловья, сбрасывал с „парохода современности” Пушкина и Лермонтова. Глушил толпу людишек с „деревянными головами” громовым своим голосом.
Все это было ещё до войны. А в первые дни войны Маяковский растерялся, “скопытился”. Больше не шумел.
Дело в том, что война разразилась неожиданно. Казалось, она вспыхнула и впрямь из-за самодурства кайзера Вильгельма, которому взбрело в голову поработить такую огромную страну, как Россия. Горячие головы бросились на защиту границ, надеясь потом расправиться с домашними поработителями.
В журнале «Новая жизнь» появились в ту пору стихи Маяковского, требующие похода на Берлин и на Вену, чтобы после победоносной схватки с кайзеровскими полками — „обтереть штыки о шали венских кокоток”.90![]()
Маяковский, был, кроме прочего, художником-карикатуристом. В издательстве Сытина вышли его лубки-карикатуры. Изображается, примерно, русская баба, прокалывающая короля Франца-Иосифа вилами, а внизу стишки:
А то ещё — гибнущие немецкие броненосцы. Под ними опять-таки стишки:
И так далее.
Позже Маяковский отрекался от этих патриотических виршей. Через два года в поэме «Война и мир» он уже воспевал надвигающуюся революцию. По-настоящему.
Как-то по пути в Новую Деревню встречаю на Кронверкском проспекте Виктора Хлебникова. В солдатской шинели и летней шляпе, в обмотках защитного цвета похож он был на бедуина, пробирающегося пешком из пустыни в пустыню.
Да так оно и было: большой город всегда представлялся Велимиру зверинцем, в котором — стоит только зазеваться — не найдёшь не только родственных душ, но и собственной головы. Вот почему проносился он стремительно мимо прохожих, точно бежал от преследователей. На этот раз путь его лежал тоже в Новую Деревню, где у него предстояла встреча с какой-то “родственной душой” — старой цыганкой, хранящей “ключи тайн”.
— А шляпу зачем напялил? — спрашиваю. — Ведь ещё зима. Простудиться можно.
— Да по весне я тоскую... — отвечает поэт-бедуин. — Надо ехать на юг, а денег нет.
— Ты бы потрусил Бурлюков... У них денег куры не клюют.
Хлебников забормотал скороговоркой:
— В том-то и дело, что клевать нечего. Война выбила Бурлюков из колеи. Но мне, собственно, не так важны деньги, то есть моё настоящее, как моё будущее. Я — будетлянин. А какой же это будетлянин, ежели он не знает, что с ним произойдёт, скажем, через десять лет? Я познакомился с одной старой цыганкой. Она нагадала мне невероятную славу, но только через сто лет.
— А пока?
— А пока накаркала, старая карга, будто я умру под забором на тридцать втором году жизни...
— Так ты сейчас держишь путь к ней, к карге?
— Да. Я теперь изобрёл формулу, как предугадывать будущее человечества... Но мне не хватает “ключа тайн”, чтобы раскрыть магический треугольник древних, замыкающийся в одиннадцатизначном числе и в слове, которое, будучи положено по треугольнику, одинаково верно читается справа налево и слева направо, сверху вниз и снизу вверх. Графически треугольник изображает маску человеко-козла, фигурировавшего в трагических действиях древних, между прочим, на элевзинских таинствах. Любовь, движущая не только человечество, но и светила небесные, требует жертв. Задача избранных, влюблённых душ в том, чтобы принести в жертву не человеко-бога, а человеко-козла. Культ Астарты-Изиды-Венеры на протяжении тысячелетий приносил в жертву именно человеко-бога. А человеко-козёл властвовал. С тех пор маска человеко-козла приросла к лицу нашей планеты... Никак её не отодрать... Ключи тайн утеряны.
— И не найти?
— Я надеюсь всё-таки выведать у старой карги. Вот, полюбуйся...
И Велимир, выхватив из кармана смятый клочок бумажки, сунул мне его под нос, на ходу. Бумажка была исчерчена какими-то кабалистическими знаками... ничего я тут не понял.
Велимир забормотал вновь:
— Древние умели высекать огонь из магических чисел и букв. Любовь их была — воистину дар небес... А современный человек открыл электричество, радио, полетел по воздуху, а любовь растерял. Гм... Мою поэму «Венера и шаман» потому и ненавидят все эти приват-доценты, что они уже не способны любить так, как любит шаман... Гм... гм...
Был март. Мы добрели до Малой Невки. На реке чернели уже полыньи. Тёмная кайма парков, извиваясь по берегам реки, ещё скованной льдом и занесённой снегом, — отливала предвесенней синевой. Мы взгромоздились на конку (от Малой Невки до Новой Деревни ходила только конка). Смотрим, а в вагоне— Маяковский.
— А, Маяк! — буркнул Хлебников. — Ты на Острова?
— Да. А ты?
— Я, собственно, на стрелку.
— Какая там стрелка! — перебиваю я Хлебникова, смеясь. — К цыганке он навострил лыжи... Я предлагаю заехать к старику Ясинскому... Тут недалеко, на Чёрной речке... Старик любит молодёжь, будет рад.
— Не люблю я всех этих Ясинских, Измайловых! — поморщился Маяк. — Ну да чем чёрт не шутит. Авось, возьмёт старик стихи для «Нового света» или, там, в «Огонёк» пристроит... К Ясинскому, так к Ясинскому! Поворачивай оглобли, Витя!
Цилиндр на затылке, широченное демисезонное пальто, выпяченная грудь, широкий рот, оттопыренная нижняя губа — вот фасад тогдашнего Маяковского. В тусклых глазах — задор, настороженность, в громадных руках, сжимающих набалдашник суковатой палки, готовность к схватке.
— А вы нажмите на старика... насчёт аванса... — обратился ко мне Маяк. — Вы там у него вроде секретаря, что ли? Вы, кажется, и с Блоком на короткую ногу? Познакомьте меня с его Незнакомкой. То бишь, с Прекрасной Дамой.
— Зачем вам блоковская Незнакомка?
— Я её...
— В каком это смысле?
— А в таком! Поэт должен быть всегда влюблённым... Меня, например, любят все девушки, за исключением той, которую я люблю... Но с Незнакомкой я закрутил бы такой роман, что чертям было бы тошно... Стихи полились бы, как из ведра... Вы думаете, я пишу пером?
— А чем же?
— Вот чем! — Маяк хлопнул себя между ног. — Пока я влюблён, я пою... Нет любви, нет и стихов. Ну вот, кажется, и дача старика, приехали.
Ясинский работал у себя в кабинетике наверху, во втором этаже. Встретил нас „старик” внизу, в гостиной, недружелюбно.
— Простите, милочка! — журил он Маяковского. — У вас попадаются прекрасные строчки... Но зачем вы рвёте их, как варвар? Предположим, что вы мастер-скрипач... И вот, когда вы берёте на скрипке самую первую ноту — у вас лопаются струны... Разве это — дело?
Хлебников сидел на диване, сложив ноги в грязных обмотках по-турецки: хмурый и молчаливый, как сыч, шаманил себе что-то под нос. Поэт страдал от безденежья... Дескать, “ключи тайн” затеряны...
На Ясинского набросился Маяковский по поводу того, что тот не печатает стихов таких блестящих поэтов, как он, Маяковский, и Хлебников.
— Каннибальство! — рычал он. — Жить же надо ж?
— Поедемте на Урал, — предложил вдруг всем Иероним Иеронимович. — В гущу, так сказать, жизни! Я недавно оттуда, с Урала... Там — заводы, замечательные люди... Леса, горы... Красота! Будем выступать... перед рабочей аудиторией... Прекрасные люди! Поедемте!
— А чего вы повезёте им? — язвил Маяк. — Своё дерьмо?
Ясинский умолк, озадаченный и обескураженный. Потом спросил Маяковского, стараясь замять “индицент”.
— Вы, кажется, слыхал я — рисовальщик?
— Нет, я деревообделочник, — был ответ.
Старик, взглянув на меня укоризненно, „зачем, мол, привёл грубиянов?” — поспешил откланяться. Он удалился к себе наверх, в кабинет. Мы, в свою очередь, выкатились на улицу.
Хлебников продолжал шаманить, бормоча на ходу под нос какие-то цифры и слова, смысл которых непонятен был ему самому.
А вечером того же дня встретил я в «Привале» Лорелею, поющую о революции, — Ларису Рейснер. И воспоминания о прежних совсем ещё недавних встречах с нею оглушили меня лирическим прибоем...
В неё влюблено было, по крайней мере, с полсотни юношей и стариков. Влюблялись адвокаты, педагоги, моряки, актёры, умники, дураки. А она влюблена была, кажется, только в двух — поэта-денди З. и в восемнадцатилетнего златокудрого Леля — Есенина.
Оравы влюблённых рекламировали её самоотверженно и бескорыстно — напропалую. Хотя и без того ей улыбалась слава. О книжке её стихов писали в газетах. В модном альманахе «Шиповник» появилась её драма. Поэт в душе, она могла сражаться на диспутах с учёнейшими из учёных, а в то же время могла играть своими звездистыми глазами с глупейшими, но красивейшими из юнцов. Голова её, окольченная тёмно-золотыми жгутами кос, в величавом повороте — похожа была на голову Клеопатры, царицы египетской, воспетой всеми поэтами мира.
А стройный стан Ларисы — Лорелеи — облекало простое коричневое гимназическое платье (она только что окончила, по информации влюблённых, классическую гимназию с золотой медалью). Дочь профессора-революционера Рейснера, впитавшая с молоком матери традиции революционной интеллигенции, Лариса уже на школьной скамье стала “красной”.
А теперь — как она жестоко играла в любовь. Как мучила влюблённых в неё дураков! Есенин прозвал её ланью, а себя — златогривым жеребёнком.
Но так как у лани-Ларисы был другой избранный, рыцарь-денди, поэт-декадент З. (по некоторым сведениям — силач), то „хрупкий жеребёнок” робел. Он только признавался робко — дескать, глаза её, впервые им встреченные в упор, были тем ударом молнии, что расколол ему душу.
Лариса смеялась звонко, тоже в упор.
— Есенин, зачем вы врёте, эх вы, Лель!
— Вот те крест, не вру! — задыхался Лель.
— А я в крест-то как раз и не верю, — отворачивалась Лорелея.
И уходила прочь.
...Затевала красная Лариса красный вечер в пользу ссыльных. Поэты-самоучки собрались с этой целью у Ясинского на Чёрной речке. Ясинский взял на себя хлопоты перед начальством, — насчёт разрешения на устройство вечера. Но многие из тех, кто собирался выступать, приводили старика в беспокойство... А вдруг начальство запретит выступать серякам-самоучкам на эстраде? Клюев, в армяке и смазных сапогах, с рыжими усами и скобкой, похож был на ямщика. Григорий Тулин — в рыжей редкой бородке, в замусоленном лапсердаке, напоминал сторожа с еврейского кладбища. Борис Богомолов смахивал на бродячего точильщика ножей. И только про Есенина, синеглазого восемнадцатилетнего Леля в золотых кудрях, можно было сказать: „Да, это поэт!”. Да ещё разве про Светозара Матюшина, виолончелиста и скульптора: „Это артист!”.
Но красного вечера не дождались: начальство не разрешило. Тогда Есенин вкупе с Городецким надумали устроить свой вечер.
Есенин незадолго перед тем нагрянул из рязанской деревни „с охапкой песен” (как говорил он). Остановился у Городецкого. Успел побывать у Блока, у Сологуба, пустить пыль в глаза Мережковским, влюбиться в Ларису Рейснер. В «Голосе жизни» появился цикл его стихов с громовой статьёй Гиппиус-Мережковской (под псевдонимом),91![]()
А красная Лариса подзадоривала Леля в ту пору:
Стишки эти были потом напечатаны в журнале Ларисы «Рудин».92![]()
Назывался вечер «Краса». Публика, читая афиши на заборах, недоумевала:
— Вечер Краса... Кто этот Крас? Пианист? Гармонист? Русский или, прости господи, немец?
Билеты всё-таки расхватывались: на афише изображён был юноша в кудрях, с трёхаршинной ливенкой, опоясывающей его от плеч до ног, наподобие змеи. Заманчиво, чёрт возьми!
...В зале прозвенел звонок. Закопёрщиком-конферансом вышел Сергей Городецкий, одетый под стрюцкого в клетчатые штаны. За ним — курносый, дьякообразный Алексей Ремизов в длиннополом сюртуке. А дальше — Клюев в сермяге, из-под которой топорщилась посконная рубаха с полуфунтовым медным крестом на старинной цепи. И под конец — златокудрый Лель-Есенин в белой шёлковой рубашке и белых штанах, вправленных в смазные сапоги. Трёхаршинная ливенка оттягивала ему плечи.
Провыли все четверо из своих стихов что-то и ушли. Публика почти не обращала на них никакого внимания. Публика требовала свое:
— Господина Краса! Краса!..
— Подавайте скорей Краса, и никаких медных!
— Это надувательство! Скоро ли выйдет этот Крас-пианист?
— Или скрипач?
— Или гармонист?
— Господина Краса или — деньги на бочку!
Тщетно Городецкий доказывал, что слово ‘краса’ — это старинное русское слово, означающее красоту, а вовсе не фамилию какого-то скрипача-пианиста, о котором, вообще-то, устроители вечера сном-духом не слыхали и ничего не знают — по той простой причине, что такого Краса в природе не существует...
Напрасно! Публика гнала конферансье с глаз. Поднялся невообразимый гвалт. Крáса — и кончено!
И вдруг из-за кулис выгружается с трёхрядкой-ливенкой через плечо Есенин. Городецкий, махнув на всё рукой, бежит без оглядки с эстрады. Есенин, подойдя к рампе, пробует лады ливенки.
— Вот как у нас на деревне запузыривают! — бросает он в толпу зрителей. — С кандебобёром! Слухайте!
Зал затихает, ждёт. Гармонист заиграл...
Но что это была за игра! Серёжа раздувал трёхаршинные меха, опоясывал себя ими от плеч до пят, пыхтел, урчал... А до настоящих ладов не мог добраться. Гармонь выгромыхивала односложный хриплый мотив — грр-мрр-брр...
Пот катился у него по лицу градом. Зал стонал от смеха и хохота. Публика корчилась в коликах. Отовсюду нёсся утробный сплошной рёв толпы:
— Ж-жмм-ии... Жжж-аррь! Наяривай!
— Заппузззыррива-ай-ай, господин Крас!
Прошло полчаса, час, а исполнитель, обливаясь потом, онемев от ужаса, продолжал пиликать. Невозмутимый Блок, сидящий в первом ряду, безнадёжно упрашивал гармониста Есенина:
— Отдохните! Почитайте лучше стихи!
А Лариса Рейснер, наоборот, неистово хлопала в ладоши, кричала, смеясь:
— Продолжайте... в том же духе!
Духу у Есенина-Леля больше не хватило. И всё же, когда из артистической выскочил вдруг опять Городецкий и в панике потащил гармониста Серёжу с эстрады — Есенин ещё упирался, доказывал, что не всю „охапку частушек” израсходовал. Есть ещё порох в пороховницах!
— Хватит до самого рассвета! — бухал он. — У нас на деревне...
...Ремизов сбежал с самого начала. Клюев, дрожа от боли („сердце, сердце...”), тащился уже из артистической к выходу. Но Городецкий рвал и метал, гнал всех с глаз.
— Провал! — стонал он.
Когда после вечера вышли на улицу, Лель-Сергей Есенин догнал Лорелею, Ларису Рейснер.
— Я вас люблю... лапочка! — забормотал он. — Мы поженимся...
Лариса отвечала насмешливо:
— „В одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань”... Эх вы, Лель!93![]()
Шли дни. Казарма давила. Попал я в неё как раз в ту пору. Я подумывал уже о бегстве из казармы. Но братья-писатели отговаривали:
— Всё равно пропадать всем, в казарме или на воле... Война, светопреставление. Плюнь на всё!
Рославлев уверял:
— Лучшего убежища для нелегальных, чем казарма, не найти. Все известные революционеры вплоть до знаменитого товарища Артёма — болтаются на фронте в прапорах. Генералы про это знают и смотрят на всё сквозь пальцы.
Действительно, генералам было не до того: земля горела под ногами. Многие рассуждали так: лучше ежовые рукавицы отечественных революционеров, чем бархатные перчатки германских солдафонов. А кроме того — раз народная война, так пусть все и воюют против кайзера, все, вплоть до революционеров. Многие из ссыльных уехали на фронт, многие обретались в санитарах. Горькому разрешалось издавать журналы и книги. Плеханов писал оборонные статьи. По общей молве, надо было сломить кайзеровскую Германию, а на другой день после мира в России предполагалась революция, республика, обнародование новой конституции с наделением крестьян землёй, со свободой слова, печати, союзов, собраний, неприкосновенностью личности и жилищ.
Царизм, чтобы выиграть войну, “отпустил гайки”. А нам, поэтам-фантастам, на всё на это — и на царизм, и на осточертевшую войну — в высшей степени было — начхать!
Конечно, мы ждали революции. Кольцо скитаний и встреч замыкалось — только в литературе. По редакциям, по кабачкам бродили полупризраки, полутворцы, фантазёры... Грин, Саша Чёрный, Дмитрий Цензор, Яков Годин, Чапыгин,94![]()
...Вот он — Грин, измождённый, бездомник-фантаст, поэт дальних странствий, донкихотствующий “революционер”. Мир мечты для него реальнее самой жизни, правдивее всякой правды... И в то же время, в случайно оброненном слове прохожего, в улыбке женщины он ищет разгадку бытия. Цветок, расцветший в глухом северном краю на заре, для него — суть мира.
Как-то сидим с ним, да ещё с Митей Цензором в ресторане на Воздвиженском проспекте... Только что отгремел хор цыган, кончилась огненная пляска совсем ещё юной цыганочки. Подходит вдруг эта певичка и плясунья, с гибким станом, с пучком незабудок за шёлковым поясом — к Грину. А глаза у неё — голубые, а косы — с позолотцей, пышные и вьющиеся. Голубые глаза и золотые волосы — у цыганок это редкость.
— Ой, сокол мой ясный, — будоражит она голубым глазом бедного Донкихота-Грина. — Да какой же ты башковитый! Да какой счастливый... Да любит же тебя краля!
— Отчаливай, — бросает Грин несмело.
— Славу твою вижу, умный мой, судьбу разумею, талант твой.
— Что? Талант? Откуда ты знаешь, цыганочка?
— Прогремишь ты на всю Россию, книги твои учёные возвеличатся. Потому — талант у тебя великий... Зазноба твоя ждёт не дождётся, а ты про то и не знаешь... Позолоти ручку — всю правду скажу... про талант... про счастье... Про зазнобу-красавицу, княжну... Сохнет по тебе она, письма тебе шлёт... присуха...
Грин бледнеет, дергает за руку Митю Цензора.
— А ведь, правда. Откуда она знает, ресторанная эта Сибилла? Я действительно получаю письма... от какой-то княжны С. — так она подписывается под письмами... Девчонка или дама — чёрт её знает! Восхищена моими книжками, особенно «Кораблями в Лиссе». Страдает. Ищет знакомства со мною. Честное слово! А в последнем письме даже назначено свиданье.
— Не хочешь позолотить ручку? Раскаешься!
Цыганочка-гадалочка исчезает. А Грин сидит точно зачарованный, вздыхает томно: значит, припёрла любовь — сестра славы. Теперь — держись. Митя Цензор, бормоча, точно глухарь, тоже начинает что-то наворачивать насчёт влюблённой в него графини Н., — это ему удается плохо. Один я молчу: никто-то меня не любит, врать мне не о чем и не о ком.
Через некоторое время встречаю Грина вновь в «Северном полюсе», на Вознесенском. От цыганского хора не осталось тут и следа: вместо хора играли румыны.
— А, старик! — приветствует меня Грин. — Ты-то мне и нужен... Где сейчас Митя? Может, ещё вернем мои деньги, костюм и пальто? Как ты на это дело смотришь?
Недоумеваю. Какие деньги, пальто, костюм?
Тогда Грин рассказывает вот что: он отправился-таки на свидание с княжной С. — прямо к ней на квартиру. Жила княжна где-то на даче на Малой Невке близь виллы Роды. Встретила писателя восторженно. Наболтала ему с три короба насчёт его гениальности. А он и размяк. Влюбился с места в карьер... Пообещал ей полцарства за поцелуй. Девчонка поломалась немного. Напоследок сдалась...
Но, впуская в спальню, спросила:
— А тебе, милый, с турурой... или без туруры?
— А что это такое — с турурой?
— Потом узнаешь... Особый шик! Только с турурой, имей в виду, на красненькую дороже.
— Любовь не картошка, а красненькая — не деньги! — вскричал Грин. — Жарь с турурой, дорогая!
Только — что за притча? Не успел он поцеловать княжну-возлюбленную, как из глаз у него уже летят искры, а сам он летит кубарем через окно в цветник. Влюблённый помнил только, как перед самой его переносицей промелькнул позолоченный каблучок красавицы, крепкий как сталь, а дальше ничего не помнил. Огляделся кругом — никого нет. А из окна, в лунном опьянении, высовывалась потом задорная мордашка “дорогой”, напутствовала Грина:
— Уходите, господин писатель, пока целы!
Какой-то разряженный хлыщ из-под её плеча добавлял:
— А не уйдёт — возьмём под жабры, да в Невку... Но всё ж советую самому уходить, господин писатель.
Но уходить господину писателю не в чем: он был в одном белье, даже в одной рубашке, без оных.
— Позвольте! — кричал Грин, трясясь от негодования, — у меня там в комнате деньги, костюм, пальто, шляпа, башмаки! Это — грабёж!
— А за девицу... знаешь, что бывает? — возвышал голос хлыщ. — Каторга! Улепётывай без оглядки.
Окно захлопнулось. Грин остался в кустах жасмина без оных. В голове его зрели адские планы мести жестокой авантюристке: ведь у него есть грозная улика против грабительницы — её собственноручное письмо, приглашающее господина писателя на свидание...
Но, пробираясь глухими переулками и пустырями к даче Ясинского на Чёрную речку, Грин вспомнил, что письмо это осталось в кармане брюк — вместе с двумя сотнями денег — в комнате у аферистки. Крыть нечем.
Ясинский прикрыл наготу Грина.
— Теперь одна надежда — на свидетелей, — заключил свой рассказ, сидя за столиком ресторана, Грин.
— На каких свидетелей? — спрашиваю я его.
— А на вас с Митей Цензором.
— Но ведь мы не видели, как вас, господин писатель, ограбляли?
— А видеть и не нужно было. Она при вас гадала, вот за этим столиком.
— Кто она?
— А цыганочка ж...
— Но ведь тебя, Грин, ограбили в квартире княжны С.?
— В том-то и дело, что цыганочка эта и есть пресловутая княжна С. Подмистифицировалась, стерва! Сумела!
После пьяных встреч с Грином я вспомнил и глазами души во весь рост увидел титана Горького. Воспоминание о первой встрече возвращает меня к памятному 1905 году.
Народ создаёт богов и героев по своему образу и подобию. Одним из таких боготворимых героев был Максим Горький. Двадцатишестилетним юношей он прогремел на весь мир не только как писатель, но и как вождь, как властитель дум народных. На глазах широчайших масс он вырастал в великана, в сравнении с которым все тогдашние — герои и властители — казались пигмеями. Молва о нём проникала в самые глухие деревушки. Полуграмотные мастеровые, неграмотные мужики садились за букварь, чтобы овладеть грамотой, промигать книги Максима Горького — “нашего брата”. Это имя всколыхнуло низы.
Когда в конце 1905 года, пробравшись в Питер, зашёл я в редакцию газеты «Новая жизнь» и впервые встретил в приёмной “самого Горького” (он говорил с кем-то из сотрудников газеты), я чуть не упал от страха. Легендарный Горький — вот он! От него, как от библейского Самсона, веяло силой мускулов, кипением молодости, суровым блеском ума в глазах дерзко ясных и как бы крылатых. Он был сутул, высок, несколько скуласт, широкоплеч, с едва уловимой улыбкой под короткими, жёсткими усами. Думалось почему-то: сила у него, как у Самсона, в волосах. Перед ним дрожали самые сильные сатрапы.
Незадолго перед тем он был выпущен из Петропавловской крепости.
— А вы... с чем? — мимоходом спрашивал он меня, одетого в зипунный пиджак домотканый. — Стихи? Стихов не печатаем! И кто вы сам?
— Я — из деревни... — бормочу невпопад.
— Поэт из деревни?
— Да. Кроме стихов, привёз очерк об аграрных беспорядках... Нельзя ли поместить в вашей газете? Теперь вот я на нелегальном положении... Хотел бы учиться в какой-нибудь школе... И — нет возможности!
— Обращались в провинциальный отдел газеты?
— Там — полно. Говорят: с улицы не берём.
— Я поговорю.
— Нельзя ли сейчас?
Но Горький подвёл руку к горлу, показывая этим жестом: занят по горло.
— Жаль... Спешу на заседание. Зайдите через несколько дней. А вообще учиться можно и без школы... То есть, я хочу сказать, лучшая из школ — это книга. Больше читайте!
Кучка нетерпеливых посетителей из заядлых “интеллигентов”, окружив Горького, теснила его, осыпала градом вопросов, вроде таких:
— Почему вы не раздаёте свой заработок калекам и нищим?
— Вы разбогатели на русские деньги, почему ненавидите русских?!
— Разгадайте загадку: кто хромает на оба колена?
В передней Горький, одеваясь, едва успевал отбиваться от назойливых вопрошателей. Он продвигался к выходу. И уже из-за раскрытой двери слышался его глуховатый бас:
— Любой дурак сойдёт за сфинкса... зато ни один мудрец не согласится стать Эдипом... чтобы не быть ослеплённым. Без дураков, господа хорошие!
У подъезда он взял извозчика. Больше я тогда не видел и не слышал Горького. Я не знал истории сфинкса с Эдипом (узнал гораздо позже), но по горьковской злой насмешке догадался, что за сволочи вообще эти сфинксы!
В ту бурную пору вторично встретиться с Горьким мне не пришлось. Народ жаждал великих действий. Рабочие готовились к вооружённому восстанию. Через несколько дней, в декабре, оно вспыхнуло в Москве и в других городах... Разгорелась небывалая звезда Ленина, а Горького одолевала скрытая болезнь. Жандармы готовились к открытой расправе с ним. Друзья увезли его в Гельсингфорс. Оттуда он с триумфом проследовал за границу в Италию, — копить новые силы.
И вот через девять лет Горький вернулся из Италии (по какой-то амнистии). Тотчас же вороньём вокруг него закружились репортёры, фотографы, шпики, просто зеваки. Он поселился в Куоккала. Но и там писателю не давали проходу. Творились легенды о его знакомстве с королями и президентами... О встречах с итальянским королём, с французским президентом — писалось даже в газетах. “Большая” пресса всячески расшаркивалась перед Горьким, провозглашала его властителем дум. Распускались слухи о ссоре Горького с марксистами-большевиками. Два лагеря боролись за право считать Горького “своим”. Лагерь старых друзей-рабочих, учёных, литераторов, революционеров и лагерь новоиспечённых патриотов — предпринимателей, краснобаев-либералов. Буржуазный лагерь старался перетянуть знаменитого “соотечественника” на свою сторону. Банкир Каминка предложил Горькому деньги для журнала. Сытин — тащил в «Русское слово»: “законодателем”. Гонорар, дескать, любой, по усмотрению самого Горького. Горький послал всех их к чёрту. Занялся редактированием журнала «Современник». «Современник» прихлопнули. (Позже, в разгар войны, редактировал «Летопись». Тоже — прихлопнули.) Предприниматели-либералы, потерпев неудачу в “обхаживании” Горького, подняли против него газетную травлю... Окрестили “двоедушным” из-за его статьи «Две души» в «Русском слове». Этой статьи так никто и не понял тогда. Горький, казалось, замолк. А времена зрели великие. Разгром царской армии на фронте ширился, для буржуазии близился “Судный день”. Взоры измученных солдат-бородачей, ратников, старых полуголодных рабочих обращались к Горькому:
— Вот кто выведет нас на настоящую дорогу, даст облегчение! Наш брат!
Помню, в одной из казарм ходил по рукам журнальчик с портретом Горького, с бритой головой. Без длинных волос Горького нельзя было себе представить. Казалось, это был уже ослеплённый Самсон, взятый в оковы... Но тут же мелькала мысль: великан ещё даст о себе знать, он сдвинет колонны старого мира под трагический возглас: „Погибни душа моя с филистимлянами!”
И на обломках старого мира будет построен дивный мир новый. И имя великого Максима Горького озарится небывалым блеском. Так говорили многие.
Солдаты мечтали вслух о встрече с Горьким. А так как они знали, что я тоже “немножко писатель”, то на меня и падала задача свести их с ним. Или, по крайней мере, рассказать подробно о том, как этот “наш брат” достиг всемирной славы. Тут же некоторые из бородачей фантазировали — каждый на свой вкус.
— Говорят, он из американцев, Горький-то. Был в Академии, по планам открыл новую правильную землю для голытьбы...
— Да ведь за то, что он защищал голытьбу, его из Академии генералы и выперли!
— Ах, сукины сыны эти генералы!
— Ну, мы ж до этих генералов рано или поздно доберёмся! Грянет гром!
— Пораспорем их брюхи!
— Засмердят они на весь мир, генералы-то!
Мне не надо было говорить много. Одно только имя Горького говорило больше, чем требовалось, чтобы не сегодня-завтра грянул гром.
Отчасти подталкиваемый солдатами-товарищами, я отправился на новую встречу с Горьким. И вот, когда встретился теперь с ним — опять растерял все слова.
Это было в Питере, зимой, в разгар мировой войны. Давался один из вечеров, кажется, у художницы Любавиной. В просторной квартире собрались редкие гости — “жрецы искусства”... Художники рисовали, артисты драмы декламировали, певицы пели, балерины плясали, поэты читали свои стихи. Горький рассказал сказку-импровизацию о русском солдате, который спасал Европу. Европу солдат не спас, а без ног остался. Дали инвалиду-солдату костыль для передвижения “по миру”, да он плохо передвигается... Норовит смазать “по рылу” своих радетелей.
— Ох, и огреет же он радетелей этих костылём, рано или поздно! — заключил Горький насмешливо.
Некоторые Горькому хлопали, кричали “браво”. Развязные молодые люди, однако, заспорили с ним о “тенденциозности” сказки, заговорили о народе и интеллигенции (дескать, интеллигенция — радетельница народа), о Востоке и Западе и т.д. Все они, эти молодые люди, поклонялись Западу, превозносили доблестных “союзников”, то есть французов и англичан, благословляли „войну войне”: Горький отмалчивался, искоса посматривал по сторонам. И — неожиданно — ко мне, с вопросом:
— А вы, товарищ... тоже солдат? На “поле брани” не были? Европу не спасали? Как насчёт войны войне?
Я был в солдатской гимнастёрке и рыжих сапогах. Служил ратником-полудезертиром в первом запасном пехотном. Сейчас от робости жался на краешке стула. Незадолго перед тем Алексей Максимович поздоровался со мной просто, переспросил только: „Пимен Карпов? «Пламень»? Читал”. Кто-то оторвал Горького от меня. Поразили меня в Горьком: высокий рост, огромный короткий нос (на фотографиях почему-то выходил нос вогнутым: это было искажение). Глаза бесстрашно-ясные, с голубым отливом, крылатые. И вся его костляво-непреклонная, угловатая фигура, будто отлитая из стали, с длинными “умными” руками, как бы напоминала корпус самолёта, поставленного навстречу ветрам. А глаза — от них веяло морем.
— Я не спасал Европы, — отвечаю с робкой усмешкой Алексею Максимовичу. — Ноги, как видите, целы... И пускай не рассчитывают на таких, как я! Банкиров, генералов и жуликов спасать мы, солдаты, больше не намерены.
— Вот вам и война войне! — улыбаясь, басит Горький. — Для банкира это — война войне, а для солдата — оторванные ноги... А Запад — всегда Запад: побольше бы ему рабов!
Разъярённые молодцы набросились на меня с проклятиями. Я совсем забился в угол, за шкаф книжный. Горький нахмурился. И, должно быть, чтобы подбодрить меня, обронил тихо:
— Не сдавайтесь! Думайте так, как думается, а не как прикажут... Идите своим творческим путём. Книги ваши хвалили, кажется, в газетах... Что ж вам ещё надо?
— Больше ругали, — говорю вполголоса. — И, может, поделом... Надоело ждать! Надоели чужие голоса!
Алексей Максимович приподымает руки-крылья, как бы дирижируя, кивает головой:
— Так... вы всё-таки работайте... Избегайте крика... Творчество — это музыка души... У нас часто это — бум! Бум! А нужно — виолончель... Понимаете — виолончель... Пишите о простых людях... о самых обыкновенных вещах... так, чтобы всё — пело!
Я возражаю храбро:
— Скучно обыкновенно, а, Алексей Максимович! Простите, вот вы — поэт в душе... жили в сказочных странах... объездили вселенную... боролись... влюблялись... (поэта нельзя себе представить иначе, как вечно влюблённым). Вы обозревали великие сокровища мирового искусства... вся история человечества была у вас как бы на ладони... Вы исколесили всю Европу — колыбель творчества... — напишите об этом книгу. Она заставила бы всех заплакать слезами счастья!
— Книгу о Европе? — сурово говорил Горький. — У нас всегда так: не знают своего уезда, а берутся писать о Европе!
— Но вы-то знаете!
— А почём вы знаете, что я знаю? Я знаю одно — не писать о том, чего не знаешь. Но вашу романтику, мечту о сказочных странах, я всё-таки принимаю. Романтика нужна. Это — музыка жизни, как творчество — музыка души...
Глаза Горького затеплились лаской, приветом:
— Не робейте, товарищ... И не злитесь. Талант вас вывезет... Он у вас есть...
Тут опять толпа гостей окружила Горького. Какие-то дяди требовали от него рассказов для сборника „в пользу раненых воинов”. Горький разводил руками — нету рассказов! А сам наблюдал за двумя “избяными” поэтами — Клюевым и Есениным. Те в бархатных кафтанах и шёлковых рубахах читали свои стихи о Руси. Горький вначале им хлопал, но когда они кончили — пробубнил добродушно:
— Однообразно уж очень... Изба да лапти. Это — несчастье наше: лапти. А у нас склонны их воспевать. Гм!
“Кондовой” Клюев в извозчичьей скобке, длинноусый, смиреннейше, с низкими поклонами возвратил Горькому его стрелы:
— Вы сами, Ликсей Максимыч, воспели бродячую Русь, которая... можно сказать, совсем без лаптей! И как воспели! По-гомеровски!
А Есенин кричал с задором:
— Лапти! Чего проще! Сами плетём!
Горький двинул плечами.
— Действительно... стихи писать — не лапти плесть! Но я-то при чём? Певец Руси? Впервые это слышу. Почему Русь?
— Потому что вы — русский, народный писатель. — Опять кланяясь в пояс, подтверждал Клюев.
— Я? Народный писатель? Спасибо, удружили. Может быть — русский писатель? Но только вряд ли “народный”...
Казалось, для Горького не было большей неприятности, чем звание: “народный”. Да это и понятно. В то время слово “народный” отождествлялось с понятием истиннорусский. От таких слов бежали все, как от чумы.
Горький остался верен себе: он подтрунивал над “народствующими” поэтами, а выдвигал поэтов-рабочих, поэтов города. Стихи же избяного Клюева называл “подделкой”, а про Маяковского, барда городских площадей, говорил: „в нём что-то есть”. Позже Горький печатал Маяковского в «Летописи», издал его книгу «Простое, как мычанье». А стихи Клюева и Есенина упорно отвергал, когда те приносили ему их.95![]()
Как-то раз, в конце той же зимы, пришлось мне пойти на квартиру к Горькому, на Кронверкский, из-за одной затерянной рукописи.
Смотрю — там саженный, рыкающий с приятелями-футуристами Маяковский. Маяковский, понятно, никому не дал тут говорить — он говорил сам. А говорил — всё о тех же обескураженных “избяных” поэтах-певцах, которые с отчаяния изо дня в день ходили по лазаретам, ублажали дам-патронесс (вернее — этих поэтов туда таскали на “аркане”). На них смотрели там, как на скоморохов, а они всё-таки “старались”.
— Надо б этих салонных крыс забросать тухлыми яйцами! — грохотал Маяковский. — Пожалуй, я это проделаю. Фальшивомонетчики! Отбивают хлеб у нашего брата, поэта-пролетария.
Алексей Максимович, выслушав Маяковского, ворчал по адресу избяных поэтов осуждающе:
— Почему эти “самородки” идут не к рабочим... не к труженикам, в те же народные дома, в избы-читальни, а лезут к барам в салоны? Ведь как они ни старайся, всё равно их прихлопнут!
Маяковский продолжал рассказывать об “избяных” похождениях.
В одном из лазаретов, по рассказу Маяковского, в княжеском особняке, оборудованном для раненых воинов, вышло так: Клюев и Есенин, одетые в неизменные бархатные кафтаны, выступили со своими стихами. Дамы-патронессы наводили на них лорнеты, долго слушали их с недоумением, а потом бросали небрежно:
— Фи! И ничего смешного!
Челядь засуетилась, затревожилась. Кто-то предложил впопыхах:
— Одеть одного из них в бабий сарафан, а другого — в медвежью шкуру! Пусть спляшут трепака! Солдатики сразу развеселятся!
Ещё кто-то посоветовал:
— Напоить их чмырём — то-то будет потеха!
Клюев готов был провалиться сквозь землю. Есенин, положим, тут же послал всех дам-патронесс громогласно “к матери”. Но от этого дело не изменилось. Солдаты-фронтовики, бородачи-инвалиды — дохли от скуки. Один из бородачей, что сидел в первом ряду, собрал среди соседей-ратников мелочь, что-то около рубля, и протянул запаренным поэтам-самородкам.
— На чмырь! — коротко пояснил бородач. — От души! Чекалдыкните!
(Чмырь — это самогон. На этом Маяковский обрывал свой рассказ.) Горький, захваченный рассказом Маяковского, глуховато хохотал. А напоследок заметил с грустной улыбкой:
— Вся эта избяная... будто бы самобытная поэзия — чмырь!
В тот вечер я ушёл, не сказав Горькому ни слова. А ночью мне приснился сон: мчимся мы будто бы с Горьким в автомобиле по ровной, гладкой дороге. Вдруг — трах-тарарах! Автомобиль летит под откос... Я вылетел вниз головой прямо под колеса. Гляжу: ноги мои отрезаны, — окровавленные, валяются тут же. А Горький Хохочет, язвит:
— Ну что, спасли Европу?
Я рвусь вперёд — тщетно! Автомобиль, грохоча, сползает в ров. Горький сидит в нём прочно, пытается что-то крикнуть мне и не может. Шофёр, вместо того чтобы вывезти машину на дорогу, берёт вдруг молоток, гвоздь, — вбивает Алексею Максимовичу гвоздь прямо в грудь. Я кричу в ужасе. А Горький подмигивает: ничего, вынесу.
— Гвоздики — сиречь железо — отличное лекарство от хандры. Железо — амброзия для продолжения жизни, для бессмертия.
Шофёр засовывает мне гвозди в рот. Глотаю гвозди, давлюсь. И — просыпаюсь, весь в холодном поту! Ясно: я болен! Но железо — думаю — испытанное лекарство, железо — залог здоровья.
В тот же день я написал Алексею Максимовичу письмо. О гвоздях и о железе. Нужно сказать, что задолго перед тем я написал ему письмо другого свойства: о старой и новой литературной школе, о своей повести (которая потом была бесследно потеряна). Помнится, в первое посещение редакции «Летописи», секретарь редакции Тихонов-Серебров96![]()
И вот теперь, на другой день после письма — получаю от Алексея Максимовича ответное письмо, где он тоном строгого поучения напоминал мне о прежних моих творческих ошибках и заблуждениях. Тон этот неожиданно сменялся тоном улыбки и надежды.
По письму я догадался: моей повести Горький так и не видел. В конце письма приписка — „Приходите вечером во вторник, после 7-ми будут товарищи, потолкуем”.
Прихожу на Кронверкский. Там — полно гостей. А может, это и не гости, а просто гуляки праздные, то есть поэты. Да так оно и есть. Исключение — разве доктор Вячеслав. Молчаливый и деликатный, в русской бородке, стройный, с усталым взглядом. Когда-то он меня лечил, а теперь только, вспоминая, спрашивал:
— Вы — марксист? Большевик? (Вячеслав был марксист-большевик.)
Алексей Максимович, осаждаемый со всех сторон вопросами, отвечал всем невпопад. Тут же протягивал мне из-за стола руку, задавал в свою очередь всем вопросы.
— Отвечайте, судари мои. Для чего мы живём? В чём назначение человека?
— Для того, чтобы... глотать гвозди! — бросаю запальчиво.
Никто меня не поддержал. Наоборот, все воззрились с молчаливым укором. Промолчал и Горький. А вопросы его относились не ко мне, но как раз к поэтам-гулякам праздным. Тут их болталось достаточно. Тулин, рабочий- поэт, деревообделочник, потом Есенин-поэт — гармонист, Лариса Рейснер — поэтесса-революционерка, ещё её рыцарь, поэт Злобин, дальше К. — поэт-сказитель, Клюев и много других.
Попал я впросак. Думаю: „забранят, засмеют!”
Хуже всего то, что тут была Лариса Рейснер. Она испепеляла меня строгим своим, недобрым взглядом. А взгляд был синий, как ультрамарин. Рыцарь её не отступал от неё ни на шаг — самонадеянный, напудренный, раздушенный, в модной визитке, в атласном белом жилете, в лакированных башмаках (на мне же торчала рыжая солдатская гимнастерка). Я сидел в углу, точно на иглах.
Горький расшифровывал свою мысль:
— Вопросы эти не праздные — о труде и праздности. Для многих — искусство, изобретательство — не труд, а наслаждение, то есть косвенно праздность, — от слова праздник. На нелюбимый труд такие смотрят как на проклятие. А жизнь, необходимость победы над природой — заставляют человека, стиснув зубы, тащить ярмо нелюбимого труда... Так вот, я хочу сказать: нет труда, не должно быть у человека труда нелюбимого! Есть, должен быть один труд, единый, освящённый любовью: труд — искусство, труд — праздник. Ты хочешь быть строителем? Вложи в это дело всю душу, полюби его... и ты будешь артист-художник! Труд твой для тебя будет праздником! А ежели ты потеешь, мучаешься над уродливой стройкой, над постылой, бесплодной пашней, над бездарными стихами, над плохой картиной — вот это и есть каторжный труд, твое проклятие! И никогда ты не увидишь праздника! И клеймить тебя будут — праздным тунеядцем. Творческий труд — вот назначение человека.
— А классовая борьба? — вырвалась вперёд Лариса. — Вы её отвергаете, по-видимому?
— Смысл борьбы в творчестве... — сказал Горький. Во имя творчества может быть оправдана не только борьба, но и смерть. Рано или поздно, творчество восторжествует — и над борьбой, и над смертью. Человек будет богом! Человек выше смерти. Человек — творец бессмертного бытия. Он победит смерть.
Поэт-деревообделочник заворчал обиженно: дескать, опять наш брат, рядовой рабочий, отдувайся, тяни лямку деревообделочника... а творить будут только избранные... гении... А ещё неизвестно, кто их избирал, зачислял в гении...
— Искусство деревообделочника может быть гениальным, — бросил опять Алексей Максимович.
— А если гения заставляют рубить дрова?
— Руби так, чтоб все пришли в восторг, глядя на твою рубку.
— А ежели заставят... класть камни?
— Клади так, чтобы камни пели...
— А ежели глаза выколют за эти поющие камни? Чтоб не зазнавался. Так, по легенде, было с Постником, творцом «Василия Блаженного»!.. Иван Грозный, говорят, ослепил его из зависти.
— В таком случае — уничтожать Иванов Грозных! В этом смысл всех революций.
Тулин не унимался.
— Пока ты его уничтожишь, он повыколет глаза всем настоящим гениям. А бездарность зачислит в гении... мнимые. Тираны — вот несчастье человечества. Нет, лучше быть простым смертным.
Горького несколько покоробила сердитая эта воркотня. Но сейчас же он всё свёл к шутке.
В разговор вмешался Есенин, наряженный в парчовую рубаху, в плисовые шаровары и жёлтые сафьяновые сапоги. Поэт-гармонист вызвался рассказать о лазаретных своих похождениях, о том, как он крыл дам-патронесс матом. Горький, добродушно улыбаясь в усы, подмигивал поэту, потом попросил его прочесть стихи. Тот прочел, глотая слова и ловя руками воздух. Горький вздохнул. Сказал раздумчиво:
— Хорошо, но... сусально что-то. Это, извините, похоже на парчовую рубашку: снаружи блестит, а изнутри — и холодно, и жестко. Миколы милостивые, Егории храбрые, — это старые, мёртвые образы... Нет, сударь, на сусальных ликах далеко уехать нельзя! — заключил Горький. — Больше живой жизни! — И добавил мечтательно:
— Поэт должен прозревать... будущее... Будить мысль, зажигать сердца огнём дерзновения! Надо учиться у всех настоящих поэтов — и у старых, и у новых... Каждый необычный голос — безмерно дорог в великом хоре поэзии!
Обескураженный Есенин, фыркнув, бросился к выходу. Только его и видели. Он был с фанаберией. Потащились к выходу и остальные гости. Остались Лариса Рейснер да ещё кто-то.
Тогда Алексей Максимович налёг на мою застенчивость:
— А вы что же, сударь? Почему не выступали со своими стихами? Критики боитесь? Критика — полезная вещь! Читал ваше письмо. Сны — ерунда, рефлексы!
Он закурил громадную, толстую папиросу. Продолжал:
— На меня на самого во сне нападают то разбойники, то сколопендры... В действительности бывает и того хуже. Драконы нападают из породы двуногих... Успевай только отбиваться! И — ничего, отбиваешься отлично! Так и вы: вылетели из автомобиля — идите пешком! Но — вперёд! Отрезало ноги — заводите протезы. И вперёд, всё вперёд! Не сдавайтесь!
Я проронил осторожно:
— Значит, косвенно, вы, Алексей Максимович, допускаете... как бы сказать, символику снов? В рефлексах?
— Так ведь сон — искажённое отражение действительности, это именно то кривое зеркало, на которое необходимо и должно пенять. А лучше всего в него не глядеться вовсе.
Горький опять закурил. Курил он беспрестанно. Закашлялся оглушительно. Кто-то сказал:
— Курить вредно... для лёгких.
— Ерунда — лёгкие! — властно пристукнул Алексей Максимович кулаком по столу. — Достаточно со всей силой убеждения сказать самому себе: ты — здоров, и болезнь будет побеждена! Да. Что до меня — доктор Манухин подремонтировал лёгкие, кажется, надолго. Ну, и юг... помог. Италия. Девять лет проторчал там! Болезнь — это нечто вроде любви: стоит её подцепить — не отвяжешься до самой смерти.
— Это действительно так! — вырвалось у меня. — Я имею в виду... любовь.
Алексей Максимович подмигнул мне:
— А вы, слыхал я, влюблены? Это, говорю, вроде болезни... Или, скажем, стихийного бедствия... Одним словом, катастрофа.
Тут он сцепил горестно руки, как бы заранее соглашаясь, что в “этой” болезни, то есть в любви, никакая сила убеждения не поможет: раз был влюблён, значит, рано или поздно наступит размолвка, потеря, катастрофа! А так как не влюблённым быть невозможно, то и выходит: за каждую улыбку счастья надо платить чистоганом...
Как на грех, закашлял и я: кашель у меня получился утробный — того и гляди, выскочит нутро. Все замолкли.
Из противоположного угла неугомонная Рейснер бросала задорно-вызывающе:
— Совсем старики!
Горький, подбоченясь, тряхнул головой:
— Что до меня — я ещё молод!
Лариса Михайловна в восторге захлопала в ладоши:
— Браво, Алексей Максимович!
А Алексей Максимович точно этого и ждал. Полилась вдруг страстная его речь-импровизация. О жизни и смерти, о молодости и старости, о любви, ниспровергающей старые миры и созидающей миры новые. Не потому ли молодость так страстно ненавидит уродов, клевещущих на любовь и губящих её? А все великие сдвиги, все великие революции — разве это не месть за попранную и поруганную любовь? Месть ненавистью. Так вот где источник вдохновения, борьбы, силы: в любви сквозь ненависть.
Лариса Михайловна смотрела на Алексея Максимовича с восхищением. Казалось, перед нею проносилась чудесным видением вся сказочная неповторимая жизнь великана, когда красивейшие из женщин мечтали о встрече с ним, как о высшей радости. А он искал счастья не для себя, а для миллионов.
Когда Горький кончил свою поэму-импровизацию, Рейснер, восторженная, но и опечаленная светлой печалью, сказала просто:
— Спасибо, Алексей Максимович! Вы устали? Вам надо отдохнуть.
Она была явно влюблена в Горького. Это видно было сразу. По бездонным глазам, широко раскрытым и синим, как ультрамарин. А может, и это главное — я — в неё?
Но я поспешил уйти. О том, что, уходя, забыл попрощаться не только с Рейснер, но и с хозяином, то есть с Горьким, — я вспомнил только на улице.
| Передвижная Выставка современного изобразительного искусства им. В.В. Каменского | ||
| карта сайта | 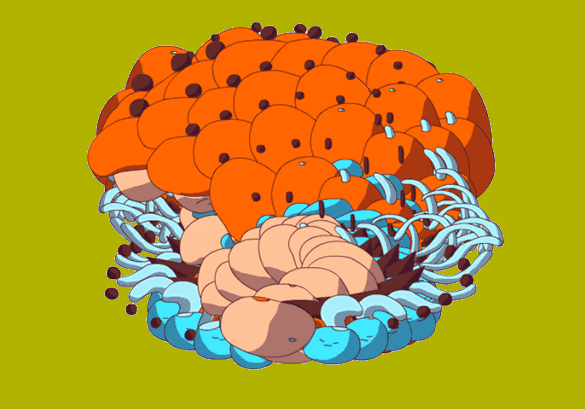 | главная страница |
| исследования | свидетельства | |
| сказания | устав | |
| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||