

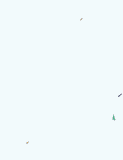 иктор Владимирович Хлебников родился в 1885 году, 28 октября, в Калмыцкой степи Астраханской губернии, в Малодербетовском улусе, где отец его был улусным попечителем.
иктор Владимирович Хлебников родился в 1885 году, 28 октября, в Калмыцкой степи Астраханской губернии, в Малодербетовском улусе, где отец его был улусным попечителем.
С самого раннего возраста Витя, еле овладев звуками речи, сознавал себя маленькой личностью и относился с чувством кроткого превосходства к старшим детям и, не умея ещё сам правильно говорить, очень строго и нещадно следил за правильностью речи, — постоянно контролируя своего старшего брата: однажды, во время прогулки по степи, брат его, очаровавшись мотыльком, воскликнул: „Ах, какой айосенький!”. Витя, которому было около трёх лет, важно и наставительно ему заметил: „Низя кизять айосенький, нузно кизять — кайосенький”. Или так: старший брат Боря говорит радостно: „Бобки, мабки, маморы!”, показывая на окружавших горящую лампу бабочек, мошек и комаров, — „Бобки, мабки, макары”, — поправляет сурово Витя.
Он также любил, чтобы почтительно относились к его маленькой особе: когда он шёл гулять с остальными, то обычно отставал, увлекаясь тщательным обследованием всего нового, заглядывая в норки, присаживаясь над червяком... Раз как-то его мама осмелилась прервать наблюдения, сказав: „Ну, ну, ползи, моя черепашка”. Этого было достаточно, чтобы оскорбить Витю, что и было продемонстрировано долгим и мрачным стоянием на одном месте, пока не прошёл гнев, и не ушли далеко остальные. Но и сам он относился необычно деликатно и ласково к окружающим, удивляя этим даже калмыка, бывшего при доме: „Что это за мальчик, никогда “она” грубого слова не скажет, ни с кем “она” не ссорится”, — говорил тот растроганно.
Наружность у Вити была самая привлекательная, за его стройное тельце и хорошенькое личико некоторые звали его „маленьким Аполлоном”.
Рос он на приволье: лето в степи знойное, но лёгкая и чарующая весна: ясное небо, нежная трава и множество золотых цветов засыпают необъятные степи...
Даже свист суслика тогда звучит как-то особенно весенне нежно и прозрачно как колокольчик. Позже отец стал брать Витю с остальными детьми (братьями) на охоту — на голубые степные озера, где зовно и радостно носится прилетевшая птица... Где белой сказкой плавают лебеди. Сначала охота так увлекала детей, что, когда они видели красивую птицу, говорили: „Какая хорошая, вот бы её в коллекцию...”. Но вдруг всё изменилось: „Ты победила, ты победила”, — кричал издали, размахивая шапкой, отец идущей навстречу их матери. Оказалось, что когда он прицелился, было, в какую-то „хорошенькую” птицу, поднялся детский бунт под предводительством Вити. „Не надо, не надо убивать птиц — они только живые красивые”, — раздавалось со всех сторон, и отцу пришлось заключить с ними мирный договор, что убиваться будут только те, которые уж очень нужны ему для коллекции. Но зато в доме постоянно что-то шелестело, мелькало, скреблось: это прятались приручаемые зверьки. А вечером, когда затихала детская, и крепко спал с братьями Витя, в ней начиналась другая жизнь, совсем особенная: вокруг большого медного таза с зажжённой лампочкой посредине (это мера против пожара) собиралось таинственное общество: тушканчик, ёж, черепаха и ещё какой-то зверёк, они сидели кружком, не шевелясь, уставясь пристально на огонь — так проходили в детской часы до рассвета...
Из степи вся семья переехала временно в Петроград к бабушке (по матери), там часто, к её ужасу, детей водили в Эрмитаж, в картинные галереи, музеи. Летом, живя в Мурине, под Петроградом, в первый раз Витя увидел северную природу, пытливо всматриваясь и вслушиваясь в её лесные тайны.
И затем семья двинулась в Волынскую губернию, куда перевелся на службу отец Вити. Там жили в бывшем имении князей Чарторыйских, окружённом с трёх сторон древним лесом. К дому прилегал парк необычайный — своими редкими растениями, деревьями, множеством цветов и... фруктовых деревьев, которым детьми уделялось особое внимание. Перед домом цветники — целый радостный, душистый праздник цветов...
Таинственные развалины сгоревшего дворца “Palazzo”, блестевшие на солнце голубым и перламутровым отливом расплавленного стекла и изразцов, внизу, через аллею лиственниц и вязов — канал, весь выложенный деревом, для увеселительных катаний княгини Радзивилл; в конце парка — фамильная каплица, в которой хранились в особых урнах набальзамированные сердца бывших владельцев (так требовал старинный польский обычай). Для детей всё это было неисчерпаемо таинственным миром.
Зима обычно бывала мягкая, с ранней весной: и в конце февраля земля в парке и лесу покрывалась фиалками, лиловыми, белыми, как забытые душистые снежинки, анемонами... Дети всегда были на страже: нужно было не пропустить появления новых цветов — когда должен был зацвести сон, они с матерью (обязательно с ней, а не с француженкой-гувернанткой, так как это были прогулки слишком интимные) отправлялись в лес — так продолжалось всю весну и лето. Витя с увлечением учился у матери узнавать и определять травы и цветы, всегда интересуясь их свойствами: он был очень горд, когда ему удалось из полевых васильков сделать чернила. У него был свой гербарий и цветничок, за которым он усердно ухаживал, вспоминаю, что особое внимание он уделял барвинку, этому странному, простому цветку.
А летом грибы, никто — как в детстве, так и после — не умел их отыскивать, как Витя, он всегда так ‹умел› подстерегать лесные тайны. Бывало, когда только что прошёл кто-нибудь другой — это был просто зелёный лесной мох, ровный и бархатистый, но при появлении Вити, под приподнятой им моховой крышей, появлялась целая семья крошечных белых или других грибов, и он, торжествуя (как и бывало уже взрослым), бережно укладывал их тонкими белыми пальцами в корзину или кузов. Это было чудесной тайной для младших, ведь найти большой гриб — это не диво.
У каждого из братьев было свое сказочное царство, и они изредка, милостиво разрешали друг другу его навещать.
Ещё тогда у него явилась впервые мысль создать новый образный язык, и одно из слов его, как помнят старшие, нередко можно было слышать в разговорах между братьями, это — „зуб-каразуб”, что означало нож и казалось могуче-восхитительным всем троим.
Учиться читать он начал ещё в степи, четырёх лет. И здесь с увлечением читал русские и французские книги, уже тогда особенно увлекаясь историей, что выразилось лишь придуманной им игрой в печенегов, где в обиду он себя не давал и был неустрашимо храбр.
К жизненным явлениям он и тогда относился философски: однажды растерявшаяся прислуга прибежала к его матери, крича: „Витя горит!” Та двинулась скорее его спасать — они встретились на лестнице — Витя медленно поднимался вверх, спокойно сияя навстречу маме голубыми глазами; она остановилась совершенно успокоенная, но когда Витя подошёл, оказалось, что сзади у него горит рубашка — он просто торжественно нёс маме — свой пожар; и пока мама, вновь перепуганная, спешно тушила огонь, он спокойно и терпеливо стоял в размышляющей позе наблюдателя.
Отец был первым, кто пристрастил Витю к рисованию, сам рисуя не без увлечения картинки для детей.
И когда Витю спрашивали, кем бы он хотел быть, он, не задумываясь, отвечал: „Художником”.
Отец переехал из степи на Волынь, главным образом, чтобы показать более жизненную, разнообразную природу детям, чтобы показать им лес и научить полюбить его, который он сам так любил.
Из Волыни снова двинулись в Симбирскую губернию, в село Помаево, кругом также были огромные леса с чудесными сказочными цветами, и ещё таинственней казались они от поверий и преданий, которыми их одарил народ: мало было мест, где бы, по словам стариков, не было зарыто под лесными курганами клада, заколдованного... богатырского, разбойничего, и были в нём кольчуги, мечи и, конечно, золото...
И беда тому, кто разроет его в неурочный час! Или сам богатырь-великан лежит издревле под курганом. Иные видели, как Стенька Разин скачет по лесу на коне. А ночью голубыми огнями мечется нечистая сила — блуждающие огни, оберегая клады.
Так что путешествие на “Репище” — языческую лесную молельню мордвы (на солнечной, лесной, нагорной поляне) — было, особенно для младших детей, радостно-мучительным: чудилось, что вот-вот откроется холм кургана, и из него поднимется кто-то кольчужный, с мечом, ... и ни в коем случае нельзя было взбегать на эти бугорки, чтобы не оскорбить “его”. Зато там, на поляне, покрытой душистыми цветами и клубникой, всё забывалось.
По праздникам мать Вити, которая любила старинные песни, устраивала дома странно-необычные пляски с пением: плясали молодые мордовки, высокие и статные, в старинных уборах их бабушек, носились они по горнице, стуча каблуками сапог, звеня бесчисленными раковинами, бусами и деньгою высоких колдовских шапок, с развевающимися чёрными “хвостами”, с бьющимися на шеях монистами, с дико раздувающимися ноздрями на разгоревшихся лицах...
Понемногу пляска затихала, меркла дикая яркость. Их наделяли конфетами и пряниками. Затем, чинно “заводились” тягучие песни.
Много было вокруг ключей и русл пересохших рек, где проводил Витя с остальными детьми подчас целые дни, ползая по сухому дну реки, усыпанному морскими раковинами и окаменевшими частями мелких морских животных другого периода Земли. Протирались насквозь костюмчики, опухали до боли колени и локти (так как полагалось ползать на четвереньках), но зато коробочки, карманы наполнялись такими редкостями... Сколько было найдено перламутровых отпечатков чудесных морских раковин, ... чёртовых пальцев (белемнитов, аммонитов), тонких и острых зубов.
Ещё собирались нещадно: коллекция бабочек, птичьих яиц и гербарий. Так что весь день нужно было быть настороженным, зорким и быстрым. Хотя у Вити всё это шло спокойно, своим чередом.
Но всё это было прервано увозом его в Симбирск для поступления в гимназию. Это первое событие, как-то надломившее светлые лучи его голубой жизни. Витю приняли в третий класс гимназии. Там было принято “испытывать новичка”. Не миновал этого и Витя, его назвали “Чижиком” и приступили к делу: не обошлось без щипков, не говоря о словесной атаке. Витя стоически выносил всё это, но вдруг терпенье истощилось, и он славно отколотил своими крепкими кулачками ближайшего врага, став сразу равноправным товарищем в глазах озорников.
Учиться ему было легко, но его угнетала постоянная “неправда” в отношениях учеников с учителями. Его тяготила также жизнь в чужой семье, куда он был помещён матерью, он начал тосковать по дому. Или, придя к старшей сестре, которая тоже училась в гимназии и жила в другой семье, он начинал горько плакать, но никто не мог добиться причины. Однажды, когда приехавшая к нему погостить мать уезжала обратно домой, он в холодный осенний день выбежал неодетый из дому и бежал так долго по улице, пока ему не удалось догнать тарантас; и, к ужасу матери, он, весь мокрый от дождя, слёз, с растрёпанными ветром волосами вскочил к ней и стал опять целовать... Пришлось ехать обратно к Е.К., где он жил, чтобы как-нибудь успокоить его. Огорчали его также новые стороны открывавшейся ему жизни; он настолько не мог сказать кому-либо неправды, что, когда однажды Е.К., у которой он жил, очень добрая и умная, ласково попросила его пойти и сказать, что её нет дома, когда кто-то позвонил или пришёл, Витя остановился изумлённый: „Как же я это скажу, когда Вы дома?!”, — и как его не убеждала она, Витя, обычно мягкий и податливый, остался при своём, наотрез отказавшись пойти.
Помнит также мать его, как он, возвращаясь с ней домой в Помаево, после поступления в гимназию, сидел на тарантасе на большом мешке с яблоками, обещанными за успех и, звонко смеясь, бросал их пригоршнями направо, налево, бегущим гурьбою за ними светлоголовым ребятишкам — он был счастлив. Это повторялось все сто вёрст пути в каждом селе и деревне, пока не опустел мешок.
Весною Витя так затосковал, что отец нашёл необходимым переселить семью в Симбирск, хотя это было сопряжено с большими трудностями. Витя опять ожил. Был у него тогда хороший товарищ, такой же мягкий и нежный, как он сам — Серёжа Масловский; свободное время они проводили обычно вместе, живя вдобавок по соседству, нисколько не пренебрегая обществом младшего брата Вити и маленькой сестры.
Затем двинулись семьёю в Казань. Здесь Витя был принят в Третью гимназию. Учителя относились к нему с особым вниманием, даже батюшка, хотя Витя никогда не знал его уроков, выделял его, говоря, что на его лице виден отпечаток чистой и правдивой души. Хотя он предпочитал чтение готовке уроков и сидел обычно дома и в классе с двумя книгами рядом — учебник сбоку, а спереди просто книга, в общем он шёл из первых, и сами учителя старались как-нибудь оправдать его, когда он не знал урока. Не так было с греческим — греческого Витя не выносил, а “грек” был беспощаден... Витины сочинения обычно читались в классе ученикам.
Также выделялся он по математике, заинтересовав самого преподавателя П., бывшего выдающимся математиком.
В Казани Витя всё больше и больше стал увлекаться рисованием, и отец, который шёл всегда навстречу разумным увлечениям детей, пригласил ему в учителя ученика казанской художественной школы. Но учеников оказалось четверо — Витя, два брата и маленькая сестра, отец пробовал, было, за малолетством её “изгнать”, но её упорство и Витина защита победили. Рисовали карандашом и красками, с натюрморта быстро перешли на портреты с живой натуры (карандаш), так продолжалось и на следующий год, но потом Витя стал отходить, увлекаясь всё больше и больше литературой и начав писать сам. К этому приблизительно времени относится написанный им и посланный к Горькому на суд большой рассказ или повесть.
В его комнате, когда он был у себя, на столе бывало разложено множество листков, обрывков, написанных его паутинным почерком. Тогда же его начала тяготить обывательская обстановка. Он вынес из своей комнаты всю мебель, оставил стол, кровать и стулья, на окне повесил новые мелкоплетёные рогожи и детски радовался своему новшеству, говоря, что только в такой обстановке он может заниматься, но скоро рогожи надоели ему, и он их выбросил куда-то.
В то время он успевал работать по математике (для него это было наслаждением), естествознанию, увлекаясь историей, филологией, литературой, философией, начав писать сам. Не было области знания и мысли, в которую бы он пытливо не заглянул, творчески стремясь проникнуть в сущность её, и в то же время он и тогда ещё охотно уделял время самым детским шалостям, вовлекая в них младших. Его трудно было вывести из себя, и, обычно уступчивый, временами он становился непреодолим, возможно, “правотой”, в упрямстве, и тогда он изобретал самые невероятные меры наказания-возмездия за несправедливость или обиду. Так было однажды ещё в Симбирске: обидевшись за что-то на маму, он решил подчеркнуть это особым способом. На табуретку были поставлены один за другим стулья, затем выше положено множество подушек со всех кроватей, начиная с самой большой маминой, а затем на самом верху этой странной башни, почти под потолком, возлежало „мамино зеркало”. Всё это было устроено в маминой комнате, и Витя, радостно и ясно сияя голубыми глазами, ждал, окружённый восхищёнными младшими, маминого прихода. Увидя всё это, она просто удивилась, а Витя торжествовал, так как никто, кроме него, не сумеет расколдовать этой башни — при малейшем неловком движении всё рушится, и гибнет „мамино зеркало”. И он, после победоносных взглядов в мамину сторону, с добродушием победителя, быстро и ловко всё разобрал, вернув побеждённой зеркало. Но всё это обычно делалось без малейшей злобы... С тех пор, как появилась у младшей сестры коса, и по мере того, как она росла, она чуть ли не ежедневно бывала в удобную минуту привязана им незаметно и бережно к стулу занявшейся чем-нибудь сестры (обычно за рисованием), а Витя где-нибудь в стороне внимательно следил за самым интересным — когда стул не пустит сестру встать, и она оглянется и увидит его весело улыбающееся лицо. У него это выходило очень мило, почти ласково, обычно эти маленькие развлечения он устраивал себе после самых серьёзных и вдумчивых занятий, может, в противовес им. Совмещая в себе мыслителя и ребёнка, его расцветающий мозг походил на тот сказочный „алый цветок”, который „в урочный час” откроет счастливцу клад — этим счастливцем стал он сам.
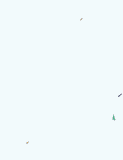 Казанскую гимназию Витя поступил, вероятно, в 1898 г. в 4-й класс. Первое время его поражала сильно грубость учителей по отношению к ученикам. Иногда после какого-нибудь конфликта между ними он приходил печальный, жаловался на головную боль. Учителя сразу его выделили среди других. Сочинения его учитель словесности держал у себя в кармане, и, раздав все сочинения, читал Витино вслух как образцовое. Учитель математики из университета приглашал его к себе на дом, давал разные книги, толковал с ним. Также обратил на него внимание учитель истории. Витя интересовался историей, много читал, но уроки не всегда готовил. Учитель, вызвав его врасплох, не ставил плохой отметки, а говорил: „Ты, верно, не мог по болезни или другой причине приготовить урок, спрошу тебя в другой раз”. Такое отношение к нему тянулось больше года, и он совсем не готовил урок истории, а только читал, с жадностью брался за книги по естествознанию, истории, забыв про уроки. Иногда говорил с юмором: „Как хорошо! Ещё только 11 часов (вечера), а я уже знаю половину одного урока”. По Закону Божьему он еле знал молитвы и тексты. Священник ему многое прощал, говоря, что на лице его — отпечаток правдивой, чистой души. Раз в старшие классы приехал архиерей во время урока Закона Божьего Лучшие ученики по Закону Божьему были слабоваты и спутали все молитвы, в том числе и Витя. Батюшка не растерялся; сказал архиерею, что ученики всё перепутали от смущения в присутствии такого лица. Дело обошлось благополучно.
Казанскую гимназию Витя поступил, вероятно, в 1898 г. в 4-й класс. Первое время его поражала сильно грубость учителей по отношению к ученикам. Иногда после какого-нибудь конфликта между ними он приходил печальный, жаловался на головную боль. Учителя сразу его выделили среди других. Сочинения его учитель словесности держал у себя в кармане, и, раздав все сочинения, читал Витино вслух как образцовое. Учитель математики из университета приглашал его к себе на дом, давал разные книги, толковал с ним. Также обратил на него внимание учитель истории. Витя интересовался историей, много читал, но уроки не всегда готовил. Учитель, вызвав его врасплох, не ставил плохой отметки, а говорил: „Ты, верно, не мог по болезни или другой причине приготовить урок, спрошу тебя в другой раз”. Такое отношение к нему тянулось больше года, и он совсем не готовил урок истории, а только читал, с жадностью брался за книги по естествознанию, истории, забыв про уроки. Иногда говорил с юмором: „Как хорошо! Ещё только 11 часов (вечера), а я уже знаю половину одного урока”. По Закону Божьему он еле знал молитвы и тексты. Священник ему многое прощал, говоря, что на лице его — отпечаток правдивой, чистой души. Раз в старшие классы приехал архиерей во время урока Закона Божьего Лучшие ученики по Закону Божьему были слабоваты и спутали все молитвы, в том числе и Витя. Батюшка не растерялся; сказал архиерею, что ученики всё перепутали от смущения в присутствии такого лица. Дело обошлось благополучно.
Равнодушно относился к Вите учитель греческого и латинского языков, ставил, как и прочим, отметки за ответы, и к этим предметам нужно было готовиться. Вообще он шёл всегда из лучших учеников. Увлекался ещё рисованием. Для занятий по рисованию на дому Вите и ещё двоим (брату и сестре) приглашали учеников художественной школы.
По летам жили где-нибудь на даче, кругом было приволье, леса и луга, купанье. Любил Витя бродить по лесу, наблюдать за птицами, искать грибы, ягоды, которых было изобилие. В семье все его чрезвычайно любили, он был кроток и мягок, иногда только на него совершенно неожиданно нападало какое-то упорство. Иногда там бывал репетитор Г. его брата, с которым он мог беседовать. Вообще жили в своей семье, знакомых было немного. Витя любил ходить в Т., от обучения танцам все почему-то отказались. Ещё Витя, как и его братья и сёстры, не выносил немецкого языка, все были достаточно подготовлены, но при малейшей возможности отказались от немецкого языка. На книги и образование детей отец денег не жалел, во всём себя урезывал, чтоб им было всё необходимое, все пятеро детей учились на трудовые деньги отца, не было никаких стипендий, пособий.
По летам иногда ездили по Волге в Астрахань (родина отца). Отец старался развить в детях любовь к естественным наукам. Витя часто с ним беседовал и далеко заглядывал вглубь.
При окончании гимназии с ним чуть не произошел казус. Тогда обязательна была исповедь. Витя пошёл на исповедь к священнику и на вопрос священника, верит ли он в Бога, ответил просто, что он не верит. Священник ответил: „Ежели не веришь, то иди прочь”. Витя ушёл. Дома он был очень удручён, так как это грозило исключением из гимназии. Отец, конечно, был тоже огорчён, обдумывали, что делать. Когда я узнала, в чём дело, посоветовала идти исповедоваться в маленькую церковку, где батюшка совершенно глухой. Отец и Витя не верили, что это поможет делу, но я их уговорила попробовать немедля. Витя пошёл к глухому батюшке, тот говорил своё, Витя своё, и всё обошлось благополучно. Инцидент был улажен. При выпуске Витя окончил из лучших, медали не получил, пять по Закону Божьему у него не выходило, в среднем двенадцать за два года.
Забыла упомянуть, что когда они ходили в гимназию, то им приходилось видеть, как учат солдат и бьют их по щекам и по лицу. Это их страшно возмущало, и они с горечью рассказывали про это и сожалели, что ничем не могут помочь.
Во время Октябрьских свобод они ходили кого-то спасать, и в телефон просили выслать солдат для защиты евреев от монархистов.
Должно быть, в 1906 г. Витя получил от университета командировку в Павдинский Завод на Урал. Денег выдали ему всего 100 р., но он набрал порядочно в коллекцию, помогал ему младший брат, ездивший на свой счёт. Зимой нужно было дать отчёт о своей поездке. Витя отправился на собрание, но говорил очень тихо, а вернувшись, отвечал нам с кротостью: „Я так тихо говорил, что никто ничего не разобрал”. Так оно и вышло, его труда не заметили.
В 1903 г. он кончил гимназию. Приятно было смотреть на его жизнерадостное лицо и ясные глаза, пытливо всматривающиеся в окружающее. Отец устроил ему поездку с одним приват-доцентом в Дагестан. Но вышло неудачно: Витя любил зоологию и ботанику, а доцент был геолог. На месте они ходили по пустым местам, где были интересные геологические отложения, и Вите приходилось носить для своего спутника тяжёлые камни. Словом, Витя был использован для геологии. Часто ему приходилось, несмотря на его кротость, спорить со спутником; [последний дошёл до того, что раз, когда они о чём-то заспорили, должно быть, Витя отстаивал свои права, Каз., не долго думая, плюнул в стоявший перед Витей стакан чаю]. Это их разлучило. Вите едва удалось добраться до Астрахани, там родные ему помогли, и он добрался и до Казани.
Осенью он начал посещать университет. С удовольствием ходил на лекции и увлекался математикой.
5 ноября была студенческая демонстрация. Полиция разгоняла учащихся. Отец пошёл, и уговаривал Витю уйти, но он остался. Когда стали арестовывать, многие убегали почти из-под копыт конной полиции. Витя не бежал, а остался, как он объяснял потом: „надо же было кому-нибудь и отвечать”. Его записали, и на другой день полицейский увёл в тюрьму.
В тюрьме он провёл месяц. С ним много сидело студентов. Книг, вероятно, давали им мало, гуляли тоже немного; от скуки они занимались борьбой. Когда Витя вернулся домой, одна его рубашка была вся в мелких клочках, до такой степени ожесточённо они боролись. С этих пор с ним произошла неузнаваемая перемена: вся его жизнерадостность исчезла, он с отвращением ходил на лекции или совсем не посещал. Бывший его товарищ по заключению, студент старшего курса, очень ему симпатизировал и предложил Вите ехать с ним в его Ярославскую деревню, чтоб встряхнуться. Витя отправился и отдохнул там месяца два. Но, вернувшись в Казань, стал стремиться в Москву. Как его ни отговаривали, он всё-таки уехал.
Вернулся на лето в Казань, жил в деревне среди лесов. Он производил впечатление человека, сильно чем-то подавленного. Писанием как будто не занимался, много читал.
Во время японской войны усиленно читал газеты и говорил, что русские были побиты, и что это будет им полезно в будущем. Конечно, тогда общество считало японцев не сильными врагами, и потому его предсказания вызывали горячие протесты и негодование. Кажется, в это время он переменил естественный факультет на математический; в чтении он сильно разбрасывался, увлекался то одним предметом, то другим. Один наш знакомый из университета говорил по этому поводу, что с высоко даровитыми людьми это бывает, [пока они выйдут на настоящую дорогу, в пример приводил Спенсера и Л.Н. Толстого.]
Дни свободы 17 октября проводили с увлечением: ходили на митинги, затем собирались спасать студентов от преследования, вызывали патрули солдат для спасения евреев от избиения. В кружке революционеров, к которому принадлежал и Витя, налаживался какой-то террористический акт. Витя должен был действовать в качестве караульного солдата. С свойственной ему наивностью, он спрашивал меня, как нужно отдавать честь офицерам. Я ему посоветовала взять на себя другую роль, т.к. не только военный, но даже такой несведущий человек, как я, догадался бы, что он переодетый революционер, а не солдат. Отсутствием малейшей военной выправки он может погубить всё дело. Выступление это не удалось, я разыскала солдатскую шинель, в которой было больше земли, чем сукна, и едва удалив её, сожгла. Ему делалось всё труднее заниматься систематично. Говорил, что ему мешает готовиться к экзамену комната, недостаточно светла; дали ему другую комнату, он стал готовиться к репетиции по физике, но потом сознался, что не может. Переехал в отдельную комнату, но в ней только спал, а целый день был дома. Опять перебрался домой, но всё не помогало, готовиться не мог. Может, у него была сильная неврастения. Лето он проводил один в деревне на берегу Волги. Должно быть, он тогда много писал, но тексты, вероятно, были мрачного характера, т.к. по ночам он ходил по берегу Волги [по заброшенному деревенскому кладбищу] и там декламировал.
В 8-м году здоровье его не поправилось, он всё порывался куда-нибудь уехать, и мы отправились втроём в Крым ранней весной. Поселились на берегу моря в Судаке. Витя ходил осматривать Генуэзские развалины, отыскивал скорпионов и совершал дальние прогулки по окрестностям. Раз как-то с торжеством объявляет по возвращении с прогулки, что он добыл около десяти скорпионов. Спирту у нас не было, и они могли разбежаться к соседям. Я взяла у него банку и оставила на ночь на низеньком каменном заборчике. Утром прихожу: банка на боку, а куры что-то усердно подбирают; я подумала, что они съели скорпионов, и несколько успокоилась. Раз принесённая им сколопендра забралась к соседям, и было большое смятение. В Крыму он много плавал и так далеко уплывал в море, что со спасательной станции за ним посылали лодку с матросами, его привозили силою, окоченевшего, мы его отогревали, убеждали, но при первой возможности он опять уплывал.
Из Крыма осенью он уехал в Петербург, и там началось его знакомство с писателями и художниками. Тогда, кажется, он написал «Маркизу Дэзес» и «Сон Прив.». Был он в высшей степени непрактичен, не мог обойтись на деньги, которые ему высылали, нашёл где-то за городом занятия репетитора с гимназистками, за стол и 5 р. в месяц, но скоро эти занятия стали его тяготить, и он их бросил.
Вообще он не любил систематических занятий, и ему было трудно подчиниться и стеснить своё “я”. В Петербурге он, должно быть, сильно нуждался. Ходил с год на лекции, а затем бросил и уехал на лето к нам в Киевскую губернию, опять уехал, должно быть, в Москву, и начались его постоянные перекочёвки с места на место. Приезжал он к нам в Полтавскую губернию. Жил в г. Лубны, c каждым приездом он становился всё нервнее и о своих планах мало сообщал.
В 1910 г. он приезжал к нам в Симбирскую губернию, летом. Жил в отдельном помещении, много писал, но, сколько я помню, не запирал своего помещения, бывшего за двором. Этим воспользовались, и украли у него вещи, книги, должно быть, и рукописи, и, несмотря на поиски и справки, ничего разыскать не удалось.
Приезжал к нам и на Рождество. Помню, был сильный мороз; по его телеграмме, мы выслали сани с парой лошадей и большой узел тёплой одежды. Железнодорожная станция была от нас в 60-ти верстах по Московско-Казанской дороге. Под вечер кто-то его увидел уже у крыльца. Он так обмёрз, что с трудом встал с саней, одет был в летнее пальто и ботинки, лёгкая фуражка, без перчаток. Его в доме, в комнате, всякими способами отогревали, сперва он не мог даже говорить, затем понемногу отогрелся, покушал. Когда прошёл час, другой, все вспомнили с удивлением, как он мог так сильно промёрзнуть, когда ему выслали так много тёплой одежды. Он пренаивно ответил: „Да, я видел, около меня лежал какой-то узел, но я не обратил на него внимания”. Он сходил в горячую баню, выспался и на другой день был совершенно здоров.
Его выносливость была поразительна: раз как-то он катался на лыжах, началась метель, дороги занесло, был уже вечер, он отошёл в сторону от дороги, вырыл в глубоком снегу ямку, поместился в неё, завернувшись снегом, и проспал до утра, не заболел.
Подобный случай был с ним, кажется, и в Казани, когда он был гимназистом, также благополучно кончился.
Из Симбирской губернии он переехал с нами в Астрахань, и тогда много писал, любил он писать ночью или же днём: закроет изнутри ставни и зажжёт электричество. Он многим родным показывал свои мелкие сочинения, но всё это было неудобопонятно. Перед началом немецкой войны он что-то предсказал с большой точностью, так что даже брат ему сказал: „Витя, будет тебе болтать”. Потом это сбылось удивительно точно. Он в начале войны много работал над трудом о периодичности войн.
Во время немецкой войны он был взят в солдаты. Военная выправка ему не давалась: он выносил много неприятностей за неуменье отдавать честь, товарищи сердились, что он мешал им маршировать. День весь был занят ученьем, а ночь, писал он, посвящалась борьбе с внутренним врагом. Еда была ужасна, грязь, паразиты. Он заболел бронхитом, думали, что у него туберкулёз, был удушливый кашель. Писал, что ему угрожали отдачей под суд: мелкие недочёты считали за упорное сопротивление. Пришлось писать письма с объяснениями, которые, кажется, имели некоторое влияние на начальство. По крайней мере, он писал, что энергия, быстрота и натиск, по Суворову, имели своё действие.
Нам рассказывал один моряк о жизни Вити в Баку перед поездкой в Персию. Витя массу имел рукописей, лежали они попросту на полу в углу. Витя, когда разговорится, толкнёт носком сапога эту бумажную гору, говоря: „Тут очень много ценных вещей”. Жена одного моряка, по происхождению крестьянка, неграмотная, но с природным умом и душевной чуткостью, говорила мужу: „Виктор Владимирович с первого взгляду странный человек, а разберёшь, он как будто рождён быть высоким человеком, царём или так высоко стоять над другими”.
Будучи в Баку, он предсказал осуществление Азербайджанской республики, чуть ли не назначил число, ему не верили, смеялись, сбылись его слова с большою точностью. Он с живейшим интересом следил за политикой и отличался удивительною чуткостью и тонкостью понимания.
В нём погибло много возможностей высоких, он не вышел на свою настоящую дорогу, что, вероятно, его так сильно нервировало.
| Передвижная Выставка современного изобразительного искусства им. В.В. Каменского | ||
| карта сайта |  | главная страница |
| исследования | свидетельства | |
| сказания | устав | |
| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||