

 а рубеже XIX и XX столетий новые веяния в живописи шли от Яна Ционглинского, талантливого художника, объединившего вокруг себя передовую молодёжь. Он учился в Париже, где примыкал к импрессионистам и откуда вернулся в Россию сильным и своеобразным художником. Неистовый спорщик, он необычайно интересно говорил об искусстве. А. Рубцов (приёмный сын художника) записывал его высказывания и потом издал книгу «Заветы Ционглинского» (1913). В мастерской Ционглинского и были зачаты новые принципы формы и цвета.
а рубеже XIX и XX столетий новые веяния в живописи шли от Яна Ционглинского, талантливого художника, объединившего вокруг себя передовую молодёжь. Он учился в Париже, где примыкал к импрессионистам и откуда вернулся в Россию сильным и своеобразным художником. Неистовый спорщик, он необычайно интересно говорил об искусстве. А. Рубцов (приёмный сын художника) записывал его высказывания и потом издал книгу «Заветы Ционглинского» (1913). В мастерской Ционглинского и были зачаты новые принципы формы и цвета.В этой мастерской, посещаемой мною нерегулярно, я познакомился с Еленой Гуро. Она училась в классе Ционглинского в Школе общества поощрения художеств и в то же время посещала его мастерскую. Вспоминаю, как я впервые увидел, “нашёл” её. В тот день работающих было мало, и вдруг я увидел маленькое существо самой скромной внешности. Лицо её было незабываемо. Елена Гуро рисовала “гения” (с гипса). Я ещё никогда не видел такого полного соединения творящего с наблюдаемым. В её лице был вихрь напряжения, оно сияло чистотой отданности искусству. Закрывая дверь, я мысленно порицал себя за то, что не сразу обратил на неё внимание. С тех пор я постоянно наблюдал за ней и всегда поражался напряжению её ищущих глаз. Я постарался поближе с ней познакомиться. Постепенно узнавая друг друга, мы сблизились и стали настоящими товарищами по работе и убеждениям.
Елена Генриховна Гуро родилась в 1877 году в Петербурге. Гуро была стародворянского рода. Её дед по отцу — французский эмигрант из рода маркизов де Мерикур, покинувших родину во время революции 1793 года. Отец Елены Гуро был военным, дослужившимся до чина генерала от инфантерии. Её мать, женщина даровитая, хорошо рисовала и могла бы стать художником. Она была дочерью Михаила Чистякова, известного педагога и литератора, издававшего в 1851–1865 гг. «Журнал для детей». Чистяков учился в Московском университете одновременно с Герценом и Белинским.
Изданная в 1846 г. в Петербурге под редакцией Чистякова книга «Картины из истории детства знаменитых живописцев» была любимым чтением его малолетней внучки Елены. Чистяков написал для детей много рассказов и сказок.
Своё детство и раннюю юность Елена Гуро провела в деревне Новоселье (в Псковской губернии). Очень рано, восьмилетней девочкой, она начала рисовать и записывать свои впечатления и фантазии.
Сохранились её тетради и альбомы раннего периода, полные рисунков и записей, стихотворных и прозаических. Впоследствии, гуляя с ней, я всегда поражался её контакту с природой. По обыкновению она держала тетрадь и карандаш, шла, смотрела, рисовала и записывала. Когда она смотрела или слушала, то вся проникалась вниманием, её интеллект загорался в контакте к воспринимаемому. Она как бы знала “тайны” вещей и умела переводить их в слово и рисунок. Её любовь к природе и привычка к наблюдению были так велики, что, живя и учась в Петербурге, она пользовалась каждым свободным днём, чтобы уехать за город. Ранней весной она отправлялась в деревню. И уже поздней осенью возвращалась в свой „каменный карман”, как она называла своё пребывание в городе. Она привозила множество рисунков, акварелей, холстов и записей в стихах и прозе. Её творчество даёт богатый материал для изучения специфики искусств в их органическом единстве.
В 1900 г. я уехал в Париж (где открылась всемирная выставка), а Елена Гуро и её сестра Екатерина решили совершить путешествие в Берлин. Денег у них было маловато. После осмотра музея они почти не выходили из гостиницы. Они сидели в своём номере боязливо, как птенцы. И вскоре вернулись в Петербург. Их путешествие напомнило мне мой приезд в Москву, когда я был двенадцатилетним мальчиком.
В мастерской Ционглинского наиболее способными были Елена Гуро, В. Матвей (В. Марков), Александр Яковлев, А. Линдеман и Т. Луговская. Ционглинский весьма ценил талант Гуро, но она постоянно сомневалась в своих силах.
При превосходных качествах учителя, Ционглинский не понимал новых тенденций в искусстве и враждебно относился к какой бы то ни было попытке идти по другому пути, кроме импрессионизма. Для Ционглинского искусство и красота существовали как самоцель.
Особенно яростно обрушивался он на Гуро, Линдеман, Луговскую и меня.
Мы стали, по удачному выражению Гуро, искать „шкап” человека, то есть отказались от старого трактования реального, сводя его к простоте, как в форме, так и в цвете.
1905 год был поворотным в моей жизни художника. От “серебристого” импрессионизма Ционглинского я постепенно, но уверенно перешёл к развёрнутому светлому импрессионизму.
Разрыв с Ционглинским заставил нас покинуть его мастерскую. Это было в 1906 году. Мы перешли в мастерскую Е. Званцевой, где преподавали Л. Бакст и М. Добужинский. Здесь мы проработали два года, после чего началось наше участие в выставках. Мастерская Званцевой многого не дала. “Мюнхенец” Добужинский был эклектик, а Бакст, опытный и культурный “мирискусник”, был академичен. Но они не мешали нам развиваться и идти своим путём.
Все, посещавшие мастерскую Званцевой, присматривались к моим работам и даже пробовали мне подражать. Однажды я начал писать обнажённого натурщика в холодных бледно-голубых тонах. Таким я его увидел в ярком свете солнечного зимнего утра. Погружённый в работу, я не мог, однако, не заметить, что около меня стоит Н. Любавина, пытающаяся написать такого же натурщика. Все её усилия были тщетны, она выжидала каждого моего мазка, чтобы дать то или иное отношение.
Ещё в мастерской Ционглинского я обратил внимание на то, что холодные голубые и зелёные в свету дают исключительную силу освещённости, более ярко, чем тёплые.
За моими цветовыми “экспериментами” внимательно следили и “руководители”. Помню о своём единоборстве с тенью подмышкой натурщика. Зашёл Бакст. Наблюдая за моей работой, он сказал:
— Так и знал, что вы здесь не справитесь.
Но я всё-таки победил и нашёл цвет тени в соотношении холодных тонов.
В начале каждой своей работы я всегда подолгу рассматривал и оценивал. И за это кажущееся бездействие я всегда бывал вознаграждён. После такого сосредоточенного наблюдения, с последовательной оценкой целого и частей в отношении к целому, мне открывалась радостная неожиданность, стимулировавшая силу выполнения и сокращавшая сроки. В такие минуты я отдавался наблюдению самозабвенно. В такие минуты я бывал совершённо неконтактен. Если меня кто-либо окликал, то мне казалось, что я падаю в пропасть. Напряжённые нервы не выдерживали неожиданного переключения. Так случалось со мной и во время напряжённой игры на скрипке.
Елена Гуро следила за всем новым, что появлялось у нас или за границей. Мы выписали из Франции Вьеле-Гриффена и Верхарна.
В магазине иностранной литературы заведующий француз Сабатье, которого я знал, спросил меня:
— Как Верарен?
О Верхарне он не имел никакого понятия.
Мы тогда нашли у нас Ивана Коневского и Александра Добролюбова. Гуро высоко ценила произведения Александра Блока («Стихи о прекрасной даме» и пьесы) и Андрея Белого («Симфонии»). Она изучала работы по теории стиха и уже начала публиковать свои рассказы.
Не менее, чем стихами и прозой символистов, Гуро увлекалась русским фольклором. Одно из её писем ко мне, где она восхищается “свободным стихосложением” Гриффена и “силой” Верхарна, заканчивается следующими словами: „Меня утешает, что я теперь опять увлечена творчеством и именно деревенским диким, сырым творчеством. Сколько тут можно работать. Какие ещё необработанные сокровища, сильные настроения”.
Литературный дебют Елены Гуро состоялся в «Сборнике молодых писателей» (1905), который ещё весьма робко лепетал слова нового искусства. Другой прозаический набросок Гуро был напечатан в журнале «Счастье» в 1906 году.
Как художник Гуро впервые выступила в 1904 г.: по предложению харьковского издателя Кранихфельда она сделала иллюстрации к «Бабушкиным сказкам» Жорж Занд.
В феврале 1909 года была издана в количестве 1200 экземпляров первая книга рассказов и стихов Елены Гуро — «Шарманка», с обложкой и рисунками автора. Книга печаталась в лучшей типографии того времени «Сириус». В состав книги входит пьеса «Нищий арлекин», к которой я написал канцону (мою первую музыкальную композицию).
Судьба этой книги была трагична. Суворин, взявшийся её распространять, через год вернул все экземпляры нераспакованными. Мы разослали их по библиотекам санаторий.
«Шарманку» любили А. Блок, А. Ремизов, Л. Шестов. Эта книга многих пленила силой “душевного импрессионизма” (по определению Осипа Дымова).
В том же 1909 г. Гуро была приглашена к участию в сборнике «Прибой». Она познакомилась с Александром Блоком и сделала рисунки для его стихотворения, напечатанного в этом сборнике.
Тогда же состоялось знакомство Гуро с В. Малахиевой-Мирович, сотрудницей журнала «Русская мысль», где она помещала критические статьи (в том числе — одобрительный отзыв о «Шарманке»). Малахиева приезжала к нам на дачу и очень радовалась знакомству с Гуро. По просьбе Малахиевой Гуро послала одно из своих стихотворений в «Русскую мысль», но оно было отвергнуто редакцией. После этого Гуро дала слово никуда не посылать своих вещей и выступить в печати только со своими единомышленниками по искусству.
В жизни и развитии Елены Гуро много значила её старшая сестра Екатерина. Они были связаны большой дружбой до самого конца жизни Елены Гуро.
Беседуя, они понимали друг друга “на лету”, и меня как музыканта поражало богатство интонаций их голосов.
Я заметил, что у людей богатой культуры голос чрезвычайно интонирует, имея большую амплитуду (или большой диапазон).
Слушая голоса сестёр Гуро, я мысленно записывал нотными знаками и заметил, что их интонации требуют двойного хроматизма. В 1910 году я начал записывать четвертями тона различные повышения звука в природе, а также людские голоса.
Гуро необыкновенно сильно чувствовала музыку, так же, как слово и цвет. Поэтому на симфонических концертах она не могла оставаться дольше одного отделения. Мы слушали Лядова и Рахманинова, спорили о Скрябине. Новую музыку она любила, её суждения были оригинальны и метки.
Как художник, она не создавала себе “стиля” как некоторой закрепощённости формы, потому что всегда шла от чистого наблюдения. Гуро могла бы стать замечательным графиком-стилизатором, но она знала “завет” нового искусства — не идти по линии наименьшего сопротивления.
С любовной осторожностью проникала она в сложные процессы роста, движения, свёртывания, угасания, разворачивания клубка самой разнообразной земной ткани. Гуро говорила: „природа любит внимательных”, т.е. только им открывает свои тайны.
Она никогда не рисовала пером. Работая только кистью как более гибким подвижным материалом, она достигала порой китайской изощрённости техники в своих рисунках тушью. Её рисунки растут и движутся, как растет и движется всё живое в природе.
Весной 1909 года Елена Гуро и я присоединились к группе Н. Кульбина и выступили на устроенной им выставке «Импрессионисты». В выставке участвовали А. Балльер, Э. Спандиков, И. Школьник, Б. Григорьев, Е. Сагайдачный и др. Выставлена была и картина молодого поэта Василия Каменского.
Кульбин был, прежде всего, декадент 90-х годов, затем дилетант-импрессионист, и дальше этого он и его группа не пошли. Но ему, безусловно, принадлежит честь первого в Петербурге выступления с молодыми художниками, которым он проложил дорогу.
Кульбин был очень отзывчив и, как мог, боролся за новое. Пытаясь определять роль различных направлений, он неутомимо выступал с докладами и демонстрировал все наиболее значительные достижения искусства на Западе и у нас. Но говорил он довольно монотонно и скучновато. Помню один из его докладов в Петербург в 1913 г. Кульбин вяло говорил о представлении в цвете:
— Зелёное вызывает у нас...
Поэт-футурист Василиск Гнедов неожиданно рявкнул:
— Жвачка!
Страшный грохот смеха, настроение сильно поднялось, и лекция, к общему удовольствию, кончилась.
Почти одновременно с выставкой «Импрессионисты» в Петербурге открылась выставка «Венок — Стефанос», устроенная Д. Бурлюком. Вскоре после знакомства с весёлым поэтом Василием Каменским мы познакомились и с Бурлюками, Давидом и Владимиром. Их живописные работы были смелы и оригинальны.
Эти работы можно считать началом кубофутуризма. Они были декоративно упрощены и объёмно-весомы и, вместе с тем, не совсем уходили от импрессионизма (по цвету).
Давид Бурдюк с поразительным, безошибочным чутьём сплотил вокруг себя те силы, которые могли способствовать развитию нового движения в искусстве.
Владимир Бурлюк, великан и силач, был сдержан и остроумен. Одарён он был так же исключительно, как и работоспособен. Как художник, он был гораздо сильнее своего старшего брата. Поэт Николай Бурлюк был талант второстепенный, но он много помогал братьям в теоретизации их живописных затей. Это был несколько мечтательный, но жизнерадостный молодой человек.
И Каменский, и Бурлюки стали бывать у нас на Лицейской.
Наши новые друзья братья Бурлюки, у которых была репутация озорников и “хулиганов”, ничего не боящихся и никого не щадящих, в присутствии Елены Гуро становились вдумчиво сосредоточенными. Гуро ненавидела всякое эстетическое кривлянье, от неё веяло творческой напряжённостью такой силы, что Бурлюки сразу прониклись глубоким к ней уважением.
Василий Каменский много рассказывал о своем новом друге Викторе Хлебникове, авторе словотворческой вещи, напечатанной в шебуевской «Весне». Мы захотели познакомиться с Хлебниковым, и Каменский обещал привести его к нам на Лицейскую.
Уже в конце 1909 г. произошла дифференцировка, отделившая от группы Н. Кульбина наиболее активных участников. Разрыв был вызван несогласием с эклектичностью, декадентством и врубелизмом лидера. Мы сделали попытку организовать кружок с целью устройства выставок. У нас на Лицейской состоялось общее собрание, на котором было решено организовать общество художников «Союз молодёжи».
На Карповке была найдена мастерская, и дело как будто наладилось, но когда мы стали просматривать поступавший материал, то оказалось, что он чрезвычайно слаб. Выступать с такими произведениями было невозможно. Некоторые из “союзников” только формально, а не по существу разделяли наши замыслы и убеждения. Когда эти художники начали, во что бы то ни стало, требовать выступления, то нам, инициаторам, пришлось отказаться от нашей затеи, чтобы не нанести вреда тому, что мы желали выявить во всей чистоте.
Гуро и я отказались в письменной форме и передали всё дело пожелавшему помочь оставшимся — меценату Л. Жевержееву (он был приглашён художниками И. Школьником и С. Шлейфером).
В начале 1910 г. Каменский привел к нам Хлебникова с его корзинкой, где он хранил рукописи. Хлебников был молчалив, вдумчив и необычайно рассеян. Отсюда его неловкость и беспомощность. Это то, о чём так хорошо пишет Елена Гуро в «Небесных верблюжатах» (образ поэта, “создателя миров”, — “портрет” Хлебникова).
Помню, обедая у нас, он задумался и поднёс ко рту коробочку со спичками вместо хлеба и тут же начал высказывать замечательные мысли о новом слове. В эти минуты высшей рассеянности он был глубоко собран внутренне. Его огромный лоб всегда производил впечатление горы.
Уходя, он часто забывал надеть шапку. Иногда заходил в чужие квартиры.
Его молчаливость и замкнутость были невероятны. Он приходил к едва знакомым людям и сидел, не говоря ни слова, час, два и так же молча уходил.
Случалось, что о нём, молчавшем в углу, забывали, запирали на ключ. Возвращаясь поздно ночью, с удивлением находили Хлебникова сидевшим в том же углу, голодным и иззябшим.
Его спрашивали:
— Виктор Владимирович, вы здесь? Ели ли вы что-нибудь?
Он отвечал с большой неуверенностью:
— Да... нет... я, кажется... ни... чего... не... ел.
Ложась спать, он постепенно стаскивал все покрытия себе на голову, мало заботясь об остальном теле, и на рассвете дрог, но оставался верным своей привычке.
Работая целыми днями над изысканием чисел в Публичной библиотеке, Хлебников забывал пить и есть и возвращался измученный, серый от усталости и голода, в глубокой сосредоточенности. Его с трудом можно было оторвать от вычислений и засадить за стол.
Ел он быстро, неразборчиво, давясь.
Он постоянно терял свои вещи, табак, деньги и поэтому нередко попадал в затруднительное положение. Вместе с тем он был упорно настойчив. Помню, как он целый час дёргал ручку звонка у моей входной двери, желая войти, во что бы то ни стало. Но я решил проявить такое же упрямство и не открывать. На другой день, обедая вместе, мы смеялись над нашей выдержкой и радовались, как щенки.
Замкнутый и молчаливо угрюмый характер Хлебникова сложился в невероятно тяжёлой, провинциальной среде его родных, не признававших его дарования и постоянно убеждавших его занять место чиновника в Астрахани (где служил его отец). Приезжая туда на побывку, поэт почти ни с кем не говорил, а перед отъездом обычно разражалась ссора, после чего он опять исчезал на продолжительный срок.
Однажды Хлебников приехал в Петербург, заявив друзьям, что окончательно поссорился с родными и решил никогда более не возвращаться в Астрахань. Но всё-таки по просьбе своей сестры он опять поехал в Астрахань и снова вернулся обиженным.
Всегда разъезжая, он повсюду оставлял в узелках и корзинках свои рукописи. Они попадали в руки его друзей, издававших его произведения весьма небрежно, что приводило Хлебникова в ярость. Иногда по своей рассеянности он давал право на издание своих вещей одновременно нескольким лицам. Но благодаря тому, что “издателями” были его друзья (Гуро и я, Кручёных, Д. Бурлюк), дело кончалось шутками и примирением.
На Лицейской бывал и С. Мясоедов, учитель математики, оригинальный ум. Он рассказывал, что у них в роду все Мясоедовы говорили друг с другом на своём, изобретённом ими языке. И уже это одно делало его необходимым соучастником нового творчества. Был ещё один член нашего кружка — сестра Елены Гуро, Екатерина Низен, одарённая писательница, вскоре отошедшая от искусства.
Все мы, собираясь вместе, горячо спорили, но одно нам было ясно: новые идеи в искусстве и их оформление в наших руках.
Я помню учредительные собрания участников первого сборника «Садок судей»: Хлебников, Елена Гуро, В. Каменский, Д. и Н. Бурлюки, Екатерина Низен, С. Мясоедов, А. Гей (Городецкий). Сколько остроумных соображений, сколько насмешек над теми, кто придёт в тупик от одного вида книжки, напечатанной на обоях, со странными стихами и прозой. Тут же В. Бурлюк рисовал портреты участников сборника. Тут же рождались и шуточные экспромты, возбуждавшие не смех, а грохот.
Книжку никто не хотел печатать. Поэтому мы её напечатали в типографии немецкой газеты «Petersburger Zeitung».
На наше первое выступление символисты почти не обратили внимания, приняв бомбу за обыкновенную детскую хлопушку.
«Садок судей» быстро разошёлся, и мы стали подумывать о втором «Садке».
Знали ли мы в это время об итальянском футуризме? Знали, хотя и мало. До нас доходили вести о новом искусстве из Франции.
О Ван Гоге, Гогене и Сезанне мы кое-что услыхали в 1904–1906 годах, а через два года — о французском кубизме, а затем и об итальянском футуризме.
Зимой 1910 года я был в Москве у Щукина, и он мне показал работы Пикассо, висевшие над картинами другого испанца — Сулоаги.
Это старенькое академическое искусство и новое так были контрастны, что я от изумления перескакивал с одного на другое и, наконец, уставился на Пикассо и не мог оторваться. Щукин сказал, что вещи этого молодого испанца у него „на испытании”. Я ещё раз посмотрел на работы Пикассо и, поражённый своеобразной смелой трактовкой цвета целыми планами, сказал Щукину, что это самый интересный художник его собрания.
В. Малахиева-Мирович познакомила нас с А.М. Ремизовым, автором «Посолони», книги, высоко ценимой Еленой Гуро. Ремизов, также ценивший Гуро как писателя, уговорил её издать сборник с “молодыми” и кое с кем из “столпов”. Гуро хотела привлечь к участию своих литературных соратников (Хлебникова, Д. и Н. Бурлюков, В. Каменского), но Ремизов предложил вместо них “молодого” В. Пяста (вероятно, в угоду Блоку).
Это чрезвычайно обидело Гуро, от Ремизова она приехала взволнованной и огорчённой. Моё объяснение с Ремизовым едва не привело к ссоре. Я сказал, что Пяст „пустое место” и что, если сборник издаётся на средства Гуро, то уже это одно даёт ей право выбора. Ремизов страшно озлился и заявил, что музыканты в литературе ничего не понимают. В письме к Гуро он выразил своё удивление по поводу того, что она поручает свои дела такому некомпетентному человеку. Гуро ответила, что хотя Матюшин и вспыльчив, но он рыцарски честен, и что мнение о Пясте — у нас общее.
Несмотря на этот конфликт, Гуро просила меня съездить к Ремизовым и предотвратить полный разрыв. Но о совместном сборнике мы больше не вспоминали.
Вскоре состоялась наша встреча с Блоком у А.П. Иванова, автора известных работ о Врубеле и “сумеречного» рассказа” «Стереоскоп», ценимого Гуро. “Глубокий” разговор Блока с Гуро (о котором он упоминает в своём дневнике) был для неё мучителен, как она мне потом сказала. Это был своего рода экзамен. Но Гуро обладала творческим разумом, и я видел, как Блок долго не мог от неё оторваться. Все присутствовавшие заинтересованно смотрели на неё и Блока, делая вид, что беседуют друг с другом. От Ивановых вышли вместе. На улице Блок продолжал разговаривать с Гуро. Мы звали Блока к себе, но он и Гуро больше не встретились.
В течение лета 1911 г. Гуро работала над сборником стихов, прозы и рисунков «Небесные верблюжата», над пьесой «Осенний сон» и над самым крупным своим прозаическим произведением «Бедный рыцарь». Первым из этого цикла появился «Осенний сон» (1912). Эта книга с обложкой и рисунками автора, с несколькими цветными репродукциями с моих картин и отрывками из моей музыкальной сюиты «Осенний сон» разошлась моментально. Часть тиража Гуро послала в санаторий, объясняя это желанием „хоть отчасти отвлечь через идеи творчества” от „трудного и тяжёлого пути страданий и болезни”. Елена Гуро глубоко верила в целительную силу искусства.
Последняя, посмертно изданная книга Елены Гуро «Небесные верблюжата» была скомпонована Екатериной Низен и мною. Книга была выпущена в начале 1914 г. Для обложки «Небесных верблюжат» я использовал рисунок семилетней девочки (племянницы Гуро). Зная, как высоко ценит творчество Елены Гуро Блок, я решил вручить ему посмертную книгу.
Я застал Блока дома, в зелёной комнате с клеёнчатым диваном и большим письменным столом. Комната производила впечатление старого “пушкинского гнезда”. У Блока было усталое и скучающее выражение лица. Но он встретил меня весьма любезно и как будто был обрадован книгой.
Он выразил сожаление о раннем уходе Гуро. Эти слова вызвали во мне большой подъём, и я заговорил о необычайном слиянии Гуро с природой, о трудном пути постоянного наблюдения, об умении создавать образы изменяющегося, растущего и движущегося в природе. На этот мой горячий порыв Блок ответил:
— Михаил Васильевич, ведь вы знаете, что я большой пессимист.
Я сразу же перевёл разговор на другое и поспешил уйти.
В 1917 г. Максим Горький предложил передать ему для издания последнее произведение Елены Гуро «Бедный рыцарь», над которым она работала почти три года. Рукопись была тщательно подготовлена к печати Екатериной Низен и мною, но издание это не осуществилось.
В самом конце 1911 г. Н. Кульбиным, Н. Евреиновым и Б. Прониным было основано место постоянной встречи новых сил столицы — артистический подвал «Бродячая собака». Сюда приходили художники, поэты, литераторы, актёры и те, кому хотелось посмотреть и послушать. Там начиналось собрание около 10–11 часов вечера и кончалось в 4–5 часов утра. Иногда бывало интересно, но вскоре эти собрания заинтересовали буржуазных снобов своей отрицательной стороной: “всё позволено”. Поэтому бывать там стоило только на выступлениях, а затем можно было уходить. После выступлений разворачивалась обывательщина — ела, пила, скабрезничала, и её пьяную развозили по домам.
Потом это место прикрыли. Буржуазная мораль охранялась полицией. Но это не помешало через некоторое время вновь открыть такой же артистический подвал под названием «Привал комедиантов». И туда также потекла “передовая” буржуазия слушать новые стихи, музыку и проч.
Наша компания бывала и в том, и в другом, читала стихи и прозу, спорила. Помню вечер в «Бродячей собаке» (зимой 1912 г.) и выступление одного начинающего поэта, впервые приехавшего в Петербург. После Д. Бурлюка с чтением стихов выступил Владимир Маяковский. Юный поэт заявил во всеуслышание, что он только вступил на путь новаторства и ещё не вполне освободился от влияния Бальмонта. Очевидно, Маяковский ещё не был уверен в том, что владеет словом по-новому. Но свои стихи он прочёл превосходно и произвёл большое впечатление.
В «Бродячей собаке» бывали акмеисты и эгофутуристы, и мы с ними спорили. Для нас Гумилёв, Мандельштам, Сергей Маковский — были равны по своей ущербленности классикой. Их “изящество” было разрывом с действительностью и с новым веянием.
‹...› В нашей группе был один случайный “попутчик”, не случайно дебютировавший в эстетском «Аполлоне». Привожу строфу из его стихотворения «Форли», напечатанного в сборнике «Садок судей II». Стихи Бенедикта Лившица — музыкальное глиссандо с паузами цыганского романса:
И всё в таком же тембре гавайской гитары.
В ноябре 1912 года я снова вступил в общество «Союз молодёжи».
На готовившуюся тогда к открытию выставку «Союза молодёжи» поступила большая картина Ивана Пуни. Это была сильная работа молодого художника — выразительно-объёмная и весомая фигура женщины.
В жюри выставки входили художники И. Школьник и С. Шлейфер, фактически заправлявшие материальной стороной «Союза молодёжи». В своём понимании нового искусства они всегда отставали. Школьник не уходил далее клеев à la Матисс, а Шлейфер отличался неутомимой болтливостью. В состав жюри входил и Э. Спандиков, талантливый художник, которому вторая профессия (он был присяжный поверенный) не давала возможности по-настоящему работать.
Вся эта тройка с яростью обрушилась на картину Ивана Пуни и на работу Владимира Бурлюка — портрет поэта Лившица. Их поддержал Бенедикт Лившиц, весьма слабо разбиравшийся в новом искусстве. Лившиц с наивным упрямством утверждал, что на холсте изображен не он, и поэтому требовал снятия этикетки.
Когда я пришел на собрание жюри, меня спросили, что я думаю о портрете Лившица. Портрет повесили в самом плохом месте, в задней комнате, чтобы публика не очень замечала. Я был поражён монументальностью и совершенно исключительной силой пространственной среды, которую удалось выразить Владимиру Бурлюку. Я принялся разбирать эту великолепную работу, и настолько убедительно, что услыхал за собой слова:
— Хорошо объясняет! Просим повторить это на выставке.
Я принял предложение и потом терпеливо объяснял публике работы Владимира Бурлюка и Ивана Пуни.
В марте 1913 года группа поэтов-футуристов «Гилея» (Хлебников, Е. Гуро, Маяковский, Кручёных, Д. и Н. Бурлюки, Б. Лившиц) примкнула к «Союзу молодёжи» для совместной идеологической и практической работы. Первое, что мы предприняли, — это выпуск №3 журнала «Союза», который был довольно беден в своих первых двух номерах.
В №3 мы дали ряд статей, стихов и рисунков. Перед этим нашей группой был выпущен второй сборник «Садок судей» (Хлебников, Гуро, Маяковский, Кручёных, Б. Лившиц, Д. Бурлюк, Н. Бурлюк, Е. Низен, рисунки Ларионова, Гончаровой, В. и Д. Бурлюков, Е. Гуро).
Мы настаивали на приглашении в журнал «Союз молодёжи» левых художников-москвичей, но эклектики во главе со Шлейфером и Спандиковым протестовали, и Жевержеев их поддержал.
Два публичных диспута, устроенные «Союзом молодёжи» 23 и 24 марта в Троицком театре, особенно интересны тем, что вскрывали суть нашего направления.
На первом диспуте «О современной живописи» — я председательствовал. Выступили с докладами Давид Бурлюк и Казимир Малевич.
Малевич доказывал, что натурализм и фотография — одно и то же.
Со словами „Вот что делает Серов...” Малевич проектирует на экран обыкновенную картинку из модного журнала «Женщина в шляпе и манто».
Поднялся скандал, пришлось объявить перерыв, но Малевичу так и не дали договорить.
На втором диспуте «О новейшей русской литературе» в качестве докладчиков выступали Давид и Николай Бурлюки, Кручёных и Маяковский. Сначала шло всё довольно гладко, но когда выступил Давид Бурлюк и сказал, что Толстой — „светская сплетница”, поднялся страшный шум. С какой-то старушкой случился обморок, и её унесли. Тогда выступил Кручёных и заявил, что он расскажет один поучительный случай:
— В английском парламенте выступил член собрания со словами: „Солнце восходит с Запада” (смех в зале). Этому члену парламента не дали договорить, и он ушёл с трибуны. На следующий день он явился снова с теми же словами, и его опять лишили слова, но вот, наконец, его решили выслушать, и он начала и докончил: „Солнце восходит с Запада, так сказал один дурак”.
Тут поднялась буря аплодисментов, и нас выслушали, не перебивая. Но прения не могли состояться из-за позднего времени.
На этом диспуте Николай Бурлюк должен был прочесть стихотворение Елены Гуро, характеризующее творческую работу всей нашей группы:
Они могли бы великолепно закончить диспут, но Николай Бурлюк в сутолоке забыл или не успел прочесть стихотворение. В тот вечер Гуро мне сказала, что получила “пощёчину” от своих.
Я поехал к Бурлюкам. Они уже ложились спать, и мой встревоженный вид их очень испугал. Я с горечью обратился к ним, требуя объяснения их нетоварищескому поступку. Давида Бурлюка забывчивость брата очень взволновала. Николай был страшно смущён и ничего не мог сказать в своё оправдание.
К этому времени давно подорвавшая здоровье Гуро лейкемия приняла быстрый и опасный ход. За полгода перед этим ей делали инъекции мышьяка, и состояние её здоровья несколько улучшилось. Но нагрянувшая работа по изданию товарищеского сборника, а также беседы с новыми соратниками (Маяковский, Кручёных, Малевич, Лившиц) потребовали от неё большого напряжения.
Мы уехали в Финляндию, в Усикирко, и здесь 23 апреля (6 мая) 1913 года Елена Гуро скончалась. Через пять дней в газете «Речь» была напечатана статья-некролог под заглавием «Неоценённая». Автор некролога, художественный критик А. Ростиславов, один из тех, кто проводил Елену Гуро в её последний путь, писал: „Скончалась она в одинокой бревенчатой финской даче на высотах, покрытых елями и соснами. Гроб её на простых финских дрогах, украшенных белым полотном и хвоей, по лесистым холмам и пригоркам провожала маленькая группа близких и ценивших. Могила под деревьями на высоком холме простого и сурового финского кладбища с видом на озеро, оцепленное лесом”.
Весной 1913 года, ещё при жизни Гуро, был задуман сборник «Трое», где она должна была выступить со своими друзьями Хлебниковым и Кручёных. Этот сборник вышел уже после смерти Гуро, с обложкой и рисунками Малевича, посвящёнными её памяти.
В конце того же года, вместе с последней выставкой «Союза молодёжи», состоялась и посмертная выставка живописи и графики Елены Гуро, имевшая большой успех. Высокую оценку её работам дал такой строгий судья, как Павел Филонов.
Объединённый комитет «Союза молодёжи» и «Гилеи» решил организовать футуристический театр «Будетлянин».
Летом 1913 г. мы решили собраться в Усикирко, чтобы наметить дальнейшую совместную работу.
Приехали Малевич и Кручёных. Хлебников не приехал. Он уронил кошелёк в купальне и, таким образом, остался без денег на дорогу. Ловля кошелька сеткой и крючками была безуспешной. В результате я получил из Астрахани его сообщение о том, что поездка откладывается до осени.
Мы составили план действия, втроём написали манифест и стали усиленно работать над оперой «Победа над солнцем». Я писал к пьесе Кручёных музыку, Малевич рисовал эскизы декораций и костюмов. Мы закончили работу в Петербурге к декабрю, когда и состоялись постановки «Победы над солнцем» и трагедии «Владимир Маяковский» (2,3,4 и 5 декабря 1913 г.).
Эти спектакли показали, как мало понимали и публика, и критика то новое, о котором мы так много говорили на диспутах и в наших изданиях.
В «Победе над солнцем» мы указывали на выдохшийся эстетизм искусства.
Два будетлянских Силача поют:
Никто из поэтов не поражал меня своим творчеством так непосредственно, как Кручёных. Мне и Малевичу были близки его идеи, запрятанные в словотворческие формы.
Мы часто говорили при какой-либо неудаче: „Пахнет дождевым провалом” (из «Победы над солнцем»). Когда я писал музыку на его слова там, где потревоженный Толстяк оглядывает „10-й стран” и не понимает нового пространства, мне с убедительной ясностью представлялась новая страна новых возможностей. Мне казалось, что я вижу и слышу пласты правильно рифмующихся в бесконечности масс. Думаю, что мне удалось выразить это в музыке.
Есть у меня связанное с Кручёных неоконченное дело: после «Победы над солнцем» он начал работать над текстом другой оперы, «Побеждённая война». Но мне удалось сделать только черновой набросок музыки к первому акту. Ряд замечательных набросков (карандашом и углём) сделал Малевич.
Я помню слова Кручёных, обращённые ко мне на одной из репетиций:
— Дорогой Матюшин, объясните студентам-исполнителям суть непонятных слов.
Дело в том, что студенты, исполнявшие роли, и хор просили им объяснить содержание оперы. За словесными сдвигами они не видели смысла и не хотели исполнять, не понимая. Я сказал приблизительно следующее:
— Мы не всегда замечаем перемены в языке, живя в своём времени. Язык же и слова постоянно изменяются. Если культура народа велика и активна, то она отбрасывает отжившие слова и создает новые слова и словосочетания.
Далее я прочёл стихотворение величайшего русского поэта XVIII века Державина и сказал:
— Я думаю, что стихотворение Державина вам так же непонятно, как и наша опера. Я нарочно ставлю вас между двумя эпохами, новой и старой, чтобы убедились, как сильно меняется способ выражения. Но условиться о чём-либо — значит понять. Читая Ломоносова, Хераскова, Державина, вы должны с ними условиться о понимании, так же точно и здесь вы должны понять, что такое слово.
Читаю любимые мною стихи Крученых и объясняю пропуски:
| Дверь | Удар |
| свежие маки | нож |
| расцелую | ток |
| пышет | посинело |
| закат | живи |
| мальчик | живёшь умираешь… |
| собака | |
| поэт | |
| младенчество лет |
Затем я объяснил, что старая форма стала настолько доступной, что даже штабные писаря умеют писать стихи классическими размерами, и что прежний способ рассказа или описания так искажён ненужными предложениями, высокопарными словами, что в настоящее время кажется нелепым:
— Вот один пример: недавно я встретил старика, очень культурного по своему времени, и он начал рассказывать мне, как он забыл калоши. Он начал о травосеянии на юге и с того, какие платья носили в это время, когда ещё не было калош, а цены на масло были очень низкие.
Это вызвало шумное одобрение слушателей.
Я объяснил, что опера имеет глубокое внутреннее содержание, что Нерон и Калигула в одном лице — фигура вечного эстета, не видящего “живое”, а ищущего везде “красивое” (искусство для искусства), что путешественник по всем векам — это смелый искатель, поэт, художник-прозорливец, и что вся «Победа над солнцем» есть победа над старым романтизмом, над привычным понятием о солнце как “красоте”.
Объяснение со студентами мне удалось вполне. Они мне аплодировали и сделались нашими лучшими помощниками.
Средства на постановку субсидировали председатель «Союза молодёжи» Жевержеев и Фокин, содержатель «Театра миниатюр» на Троицком. Наши первые репетиции в «Театре миниатюр», вероятно, воодушевили наших меценатов. Фокин, прослушав первый акт оперы, весело закричал:
— Нравятся мне эти ребята!
Снят был театр Комиссаржевской на Офицерской. Но наши меценаты не очень раскошелились. Не пожелали достать хороший рояль и с опозданием привезли какую-то старую “кастрюлю”. Хористов наняли из оперетты, очень плохих, и только два исполнителя — тенор и баритон — были приемлемыми.
Репетиций было всего две, наспех, кое-как.
Малевич написал великолепные декорации, изображающие сложные машины. Он же придумал интересный трюк. Чтобы сделать громадными двух будетлянских Силачей, он поставил им плечи на высоте рта, головы же в виде шлема из картона — получилось впечатление двух гигантских человеческих фигур.
В день первого спектакля в зрительном зале всё время стоял “страшный скандал”. Зрители резко разделились на сочувствующих и негодующих. Фокин был смущён скандалом и сам из директорской ложи показывал знаки негодования и свистел вместе с негодующими.
Кручёных играл удивительно хорошо две роли: Неприятеля, дерущегося с самим собой, и Чтеца. Он же читал пролог, написанный Велимиром Хлебниковым.
Жевержеев был так напуган, что на мою просьбу вернуть Малевичу рисунки костюмов и декораций (не купленные меценатом, он был экономен) отказался наотрез, говоря, что у него нет никаких рисунков, и что вообще он с нами никаких дел иметь не желает.
Вскоре произошёл распад общества художников «Союза молодёжи». Четвёртый номер журнала так и не вышел: Жевержеев перестал субсидировать. Удалось только издать пьесу «Победа над солнцем» с кусочками музыки.
Первые шаги в искусстве всегда трудны и тяжелы. Тот, кто видел Малевича с большой деревянной ложкой в петлице, Кручёных с диванной подушечкой на шнуре через шею, Д. Бурлюка с ожерельем на раскрашенном лице, Маяковского в жёлтой кофте, не подозревал, что это пощёчина его вкусу. Его веселье перешло бы в ярость, если бы он уразумел, что мы осмеиваем пошлость мещанско-буржуазного быта.
Маяковский умел нежно и мягко смотреть на друзей, но когда он дрался с пошлостью, выходя в жёлтой кофте, то становился страшно неудобен для всех, пришедших только повеселиться. Он как бы распухал, занимал всё пространство и всегда ровно и спокойно парировал мещанскую глупость. То горячее, что из него лилось и неслось в творчество, так сквозило в его лице, что было странно слышать его спокойную речь о чём-либо. Его фигура, его лицо, его движения говорили: „Трагедия «Владимир Маяковский» — это я”.
В «Трагедии», как и в своих ранних стихах, Маяковский пробирался к новому сквозь заросли традиций символизма: Белого, Бальмонта, Брюсова, Блока.
Организационные собрания нашей группы периодически повторялись каждый год. Зимой или весной приезжали Бурлюки и Каменский. До 1916 года жил по зимам в Петербурге Хлебников.
В 1913–1914 годах имена кубофутуристов были нарицательными, повсюду их желали видеть и слышать.
Обывательская критика собирала в аудиториях массу желающих понять и познать. Даже Чуковский, несмотря на долгий разговор с Кручёных перед лекцией, так и остался “стариком”, не понимающим нового.
Любопытно отношение к Чуковскому Хлебникова.
На одном из докладов Чуковский, встретившись в зале с Хлебниковым, обратился к нему с предложением вместе издать не то учебник, не то что-то другое. Я стоял рядом и наблюдал: одинаково большого роста, они стояли близко друг к другу. Две головы — одна с вопросом, другая с нежеланием понимать и говорить. Чуковский повторил вопрос. Хлебников, не уклоняясь от его головы и смотря прямо ему в глаза, беззвучно шевелил губами, как бы шепча что-то в ответ. Это продолжалось минут пять, и я видел, как Чуковский, смущённый, уходил от вылупленных на него глаз Хлебникова, под непонятный шёпот его рта.
Никогда я не видел более странного объяснения. Когда я рассказал о “разговоре” с Чуковским Бурлюкам, их очень развеселила эта мимика, столь свойственная Хлебникову.
В конце 1915 г. Хлебников прочёл у Осипа Брика доклад о числе. Виктор Владимирович в тот вечер был “в ударе” и дал глубокое истолкование нового значения числа.
Летом 1916 г. по приглашению Н. Асеева и художницы Марии Синяковой я поехал в Красную Поляну. Там были Григорий Петников и Дмитрий Петровский. Рядовой Хлебников (получивший отпуск) читал по рукописи свою пьесу «Ошибка смерти», поразившую нас необычайным мастерством стиха:
В феврале 1914 года Кульбин чествовал в «Бродячей собаке» приехавшего в Россию вождя итальянского футуризма Ф.Т. Маринетти. Кульбин благоговел перед Западом и его культурой.
Когда Маринетти приехал в Петербург, Хлебников разразился знаменитым обращением к баранам гостеприимства в кружевах холопства.
На вечер Маринетти Хлебников пришёл, сопровождаемый Б. Лившицем, вместе с которым раздавал публике листовку. На наших литературных вечерах Хлебников никогда не выступал и молча сидел на сцене, но на вечере Маринетти он так разгорячился, что чуть не побил Кульбина.
На меня Маринетти произвёл впечатление талантливого человека, искусно владеющего словом. Он хорошо изобразил шум пропеллера, взрывы, удары барабана, как бы манифестируя будущую европейскую войну. Но, в общем, это мне показалось только трюкачеством.
В начале 1914 года вышел последний боевой сборник группы кубофутуристов «Рыкающий Парнас» (Маяковский, Хлебников, Кручёных, Д. Бурлюк, Н. Бурлюк, В. Каменский, Б. Лившиц, Игорь Северянин, художники: Д. и В. Бурлюки, И. Пуни, О. Розанова, П. Филонов).
Инициаторами сборника была юная пара — художник Иван Пуни и его жена, художница Ксения Богуславская, вернувшиеся из Франции, куда они уезжали на длительный срок.
Пуни — сын богатого музыканта-виолончелиста — был отправлен за границу для излечения от туберкулёза. Здоровье его восстановилось, и он, уехав мальчиком, вернулся юношей, понаторевшим в искусстве и видевшим всякие новшества. Очень даровитый, острый на восприятие и на усвоение, он хорошо впитал западную культуру. Того же, что делалось у нас, он, по своему “иностранству”, не мог понять до конца.
Его супруга, Ксения Богуславская, неглупая и способная, видела в искусстве, главным образом, внешнее, как она сама говорила: „Надо сделать бу-мм”. То есть нашуметь вовсю. Так поняла она работу нашей группы, и так же понял Пуни.
В красивую и кокетливую Богуславскую был влюблён Хлебников, но она любила только своего мужа и думала только о том, чтобы устроить для него „бум”, как у нас, так и за границей.
Впоследствии этот „бум” создали две устроенные ими выставки «Трамвай В» и «0.10. Последняя футуристическая выставка картин» (1915).
В феврале 1914 года я был вызван в Окружной суд как ответчик за изданный мною и Пуни сборник «Рыкающий Парнас»: в помещенных в сборнике рисунках Филонова и Д. Бурлюка цензура усмотрела нарушение благопристойности.
Но суд не состоялся. По какой-то формальной причине он был отложен, а затем и совсем прекращён ввиду того, что сборник успели конфисковать ещё до выхода в свет. Мне всё-таки удалось сотни две распространить сразу по получении экземпляров из типографии. К счастью, полицейский надзор об этом не узнал. Сборник был мгновенно расхватан.
Русский кубофутуризм родился сильным и здоровым. Это был могучий физкультурник, не стыдившийся своей наготы и не надевавший модного западного тряпья. Он умел с одинаковой силой любить и ненавидеть и поэтому яростно дрался за свое дело. ‹...›
| Передвижная Выставка современного изобразительного искусства им. В.В. Каменского | ||
| карта сайта | 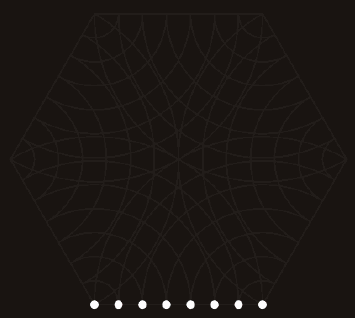 | главная страница |
| исследования | свидетельства | |
| сказания | устав | |
| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||