

 а Средней Подьяческой1
а Средней Подьяческой1— Здесь живет поэт Северянин?..
— Северянин... Игорь Васильевич Лотарев, спрашиваете вы? Здеся... Здеся...
Я протягиваю карточку. Дверь захлопывается. Через пять минут старушка поспешно открывает её и вводит меня в крохотную (2 шага на 3) кухоньку.
— Ах! — смущается старушка, — головку-то не зацепите... Бельё-то...
Трудно не зацепить. Под потолком, на трёх протянутых верёвках висит только что выстиранное, ещё мокрое бельё.
— Сюда, сюда пожалуйте, — шепчет старушка, входя в узкий коридорчик, где можно только еле-еле пройти. Там она снимает с меня пальто. В комнате рядом в огне керосиновой лампы мелькают, как испуганные птицы, две женщины, прикрывая дверь. В другой — тоже мечется, что-то прибирая, высокий, длинноносый человек, с головой продолговатой, как гигантское яйцо. Он в смущении закрывает руками ворот своей ночной рубашки, на которую надет куцый серый сюртучок.
— Очень приятно... Я знаю ваши стихи. Где вы их печатали в последний раз? В альманахе «Ветви»? Нет? — бормочет он, бросаясь к полке и перелистывая альманах. Стихов он там не находит и величественно указывает на диван.
— Прошу.
— Я пришёл к вам по делу, Игорь Васильевич. Литературный кружок Политехнического Института, где я состою товарищем председателя, просит меня прочесть доклад о новом движении в поэзии. Я читал несколько книжечек о футуризме, но они мне ничего не говорят. Я решил поговорить на эту тему с вами. Что такое эго-футуризм? Конечно, вы, глава движения, объясните мне это гораздо яснее.
Продолговатое лицо рядом на диване морщится. Северянин подносит указательный палец к губам — его любимый жест.
— Очень приятно. Э... э... “эго” — это “я”, моё внутреннее “я”... футуризм — это будущее... future. Понимаете?.. Значит, эгофутуризм — это я... я в будущем.
— Но мы все в будущем, Игорь Васильевич.
— Да, конечно... Но... вы читали брошюры Ивана Игнатьева?.. Он там это ясно говорит. Я, признаться (широкий жест), — не очень интересуюсь этим... как бы вам сказать?.. этим образованием обезьяньего стада. Я читаю им стихи — и всё. Всё мое творчество — программа и написанная стихами — n’est ce pas?2![]()
Широкие, плотно сжатые губы его змеятся в неуверенной улыбке:
— Пора популярить изыски. Ха-ха...
Тогда я ещё не знал, что значит „популярить изыски”, но когда Северянин стал просить стихов, стал читать свои — певучие, как сама музыка, и прекрасные по форме (это было лучшее его время!), — я не пожалел о своём приходе.
В этот момент старушка, морщась, принесла чаю с какими-то печеньицами, за ней вошла высокая дама в чёрном, с усталым, бледным, каким-то опущенным лицом. Это была мать Северянина3![]()
— Je demande pardon,4![]()
— Je demande pardon, что мы не можем вас принять лучше. Сегодня как раз стирка. Это так неприятно, право!
Мне сразу стало жалко эту растерянную, прибитую жизнью женщину, с первых слов начавшую жаловаться, что этот дом, где они живут, — их дом, так же как и один большой на Гороховой улице (или Адмиралтейской набережной — не помню точно), около Градоначальства... Когда Игорь был мальчиком, они там жили, до смерти рара... А потом родственники сделали ужасные вещи с завещанием, и всё взяли себе, всё... Мне дали вот только эту квартирку, словно из милости... Но ведь у меня же горничные лучше жили... И теперь кто к нам ходит? Какие-то литераторы: Афанасьев — правда, он не пьёт; Фофанов...5![]()
— Кстати, — продолжала она, — я слышала из-за стены, что вы печатаетесь в газетах? Для человека общества это просто невыгодно. Я всегда говорю это Игорю за то, что он печатается в «Нижегородском Листке»... Эти глупцы будут думать, что и вы какой-то газетчик... Нет, это жаль!
В это время послышался звонок.
— Игорь Васильевич дома? (почти басом).
— Маяковский! — полуиспуганно прошептала мадам Лотарева. — Я уйду...
Она попрощалась со мной с грацией придворной дамы. Жёлтые полосы выступили из мрака коридорчика, откуда раздавались чёткие, сильные шаги. Жёлтые полосы — это первое, что бросилось в глаза. Потом появился безусый парень с огромной лапищей.
— Маяковский, — певуче сказал он нижней челюстью (кажется, только одной ею он и говорил) и неловко плюхнулся в кресло около лампы, внимательно вглядываясь в нас, сидящих в полутемноте.
Жёлтые полосы под лампой отражённо осветили всю комнату, как кричащая афиша. Это на нём светились они, на его кофте: смесь пижамы с клоунским кафтаном.
„Он не в своём уме!” — подумал я с неуютным, неловким чувством видящего нелепицу, в которой он не может разобраться.
Жёлтая кофта была сильно заношена, и белые пузырьки растаявшей изморози играли на волосках её бумазеи под светом лампы. И эта лошадиная “морда” пришедшего, что-то животное, костлявое и вместе — машинное, словно это был робот, а не человек! Он всё смотрел на нас, не говоря ни слова.
Для чего же он пришёл сюда? На дворе снег (был декабрь) — ему холодно в этой кофте? Есть ли фуфайка под нею? Значит, это тот „футурист в жёлтой кофте”, о котором я читал недавно? И стоит ли писать о такой морде?! M-me Лотарева была права, уйдя. С пришедшим в комнату вошли напряжение и неловкость. Их рассеял новый звонок. Это был Сергей Кречетов,6![]()
С четверть часа Маяковский упорно изучал Кречетова в своем углу, потом, не сказав ни слова, так же неожиданно вышел, как и пришёл.
Я захохотал невольно.
— Почему он не идёт в цирк, этот клоун?
— Он вовсе не клоун, — сказал Кречетов. — Он очень башковитая и хитрая бестия. Вы не понимаете психологии. Россия не может жить без юродивых — мы до этого ещё не доросли. Если Суворову, чтобы выдвинуться, надо было кричать петухом, то этот хочет выдвинуться другим видом юродства.
— Конечно, в России мало иметь только талант, — томно подхватил Северянин. — Если бы я не написал своих дерзких „поэз”, вы бы у меня здесь не были. Нужно было бить публику по затылку! Ха-ха!.. Вот я и стал писать их... И только после этого публика соблаговолила заметить мои хорошие стихи... N’est ce pas? Кричите петухом, поэты, чтобы разбудить спящих дикарей! Ха-ха! Что всего любопытнее, почти никто не отмечает моих хороших вещей, все, как мухи на жжёный сахар... бросаются именно на то, что я писал со специальной целью — так сказать, pour epater les bourgeois.7![]()
На полке рядом лежали они, эти четыре альбома, наполненные газетной руганью о поэте, и на первой странице каждого было чётким почерком выведено: „Завещаю Академии Наук”. (Где теперь эти альбомы, Игорь?)
Мы сошлись с Северяниным. Северянин был поэтом, поэтом, прежде всего. Тонкое словесное мастерство, чутьё рифмы, прекрасный голос, избалованная изнеженность, любовь к шутке, к женщинам и к фешенебельным ресторанам — таков был он в те дни. И невероятная любовь к природе.
С первого же дня знакомства понял я, что “эго-футуризм” Северянина — вывеска ночного бара, привешенная по ошибке на цветочный магазин.
Согласен он, что поэзия рождается интуицией, не только мастерством?
— Да, да, — подхватывает он. — Это, конечно. Я творю стихи интуитивно... Знаете что? Бросимте этих Игнатьева, К. Олимпова, образуем новую группу “эго-интуистов”?.. А то все эти мои сверстники такой дикий народ. И завистливый. (И он сверкал глазами.) Завистливый...
“Эго-интуистской” группы мы не объявляли (во-первых, потому что она была “эго”), — а просто стали читать стихи на поэзовечерах. Я открывал вечер речью, занимавшей первое отделение. Нашим импресарио был длинный, хитрый и очень способный человек Долидзе, откровенно признававшийся, что ни Бальмонт, ни Сологуб ему не дают таких сборов. Я не знаю, сколько вечеров было устроено им в одном зале Городской Думы в Петербурге, вначале полупустом, затем переполненном до отказа, — яблоку негде было упасть. Каждый вечер полнил душу радостью победы. И я, входивший в зал первым, с большим любопытством наблюдал эту смену настроений аудитории, плохо разбиравшейся в поэтическом творчестве. Вначале улыбка, насмешливое любопытство — и через десять минут: жадно слушающая толпа!
На четвёртый-пятый вечер насмешливых улыбок уже не было — мы имели свою огромную, полную энтузиазма и творческой радости аудиторию.
Из Петрограда вечера перекинулись в Москву — в Никитский театр, затем в Большую аудиторию Политехнического музея, вмещавшую более двух с половиной тысяч.
Первый вечер в Никитском театре мне особенно памятен.
Северянин читал, я стоял за кулисами, изучая такую отличную от петроградской (к выгоде для Петрограда), такую разношёрстную, “не приглаженную” толпу.
— Здрасьте, — раздался глубокий баритон за спиной.
Передо мной стоял Маяковский. Происшедшая с ним перемена могла показаться сном. Чёрное драповое пальто, кашне, жёлтые перчатки, тросточка... И... о боги! — цилиндр, тускло поблескивавший на затылке. Какой, Божией милостию, прогресс после жёлтой кофты! Из-под пальто выглядывал очень сомнительного вкуса красный галстучек. В этом цилиндре Маяковский напоминал трамвайных кучеров в американских фильмах, что так любят “шикарно” одеваться к своему венчанью.
— Я хотел спросить вас, — поднимая губы, задвигался выдающийся нижний подбородок, — сва-абодны ли вы сегодня вечером? Да? Тогда я хотел бы пригласить вас от имени сидящей там в партере дамы (он назвал фамилию) к ней на вечер.
Вскоре вышедший из-за кулис Игорь присоединился к моему соглашению. Он вообще присоединялся ко всему охотно.
Театр грохотал от рукоплесканий. Игорь поспешно вытащил конфетку «Вальда», которыми он всегда освежал горло, и мы, стоя за его спиною за кулисами, услышали вскоре:
Чудесное стихотворение это не имело такого успеха. Поэт вышел, прислушиваясь к затихавшим аплодисментам.
— Вот видите: московская публика, — нервно прошептал он. — Она ни бельмеса не смыслит в поэзии... Им надо «Качалку грёзэрки» или «Мороженого из сирени»... — И, не дожидаясь, когда аплодисменты стихнут совершенно, вышел на сцену, и мы услышали:
Неистовый рёв послышался в ответ. Да, именно „кушетка” и нужна была в Москве, и спорт за „кушеткой”, и „будуаром тоскующей, нарумяненной Нелли” публике было преподано, что для „утончённой женщины ночь всегда новобрачная”. А на прощанье Северянин бросил ей в лицо:
Дикий зал бушевал. Два плотника — служащие театра, прильнув ухом к кулисе, прислушивались с напряжением к загадочному пению поэта.
Маяковский стоял рядом, нервно вертя свою тросточку. Не нужно было быть большим психологом, чтобы понять, что он чувствовал в эти минуты. Успех поэзовечера доводил его до белого каления.
— Качалку поёт, — поджав губы, пробормотал он певуче, — где под пудрой молитвенник, а на ней — Поль де Пуп... Ты знаешь, что такое Поль де Пуп? — спросил, он в упор одного из рабочих.
Вопрос был, несомненно, только для того, чтобы отвлечь его внимание от Северянина.
— А это знаешь? — и, выпятив грудь, продекламировал торжественно и достаточно громко:
— Ха! — крякнул рабочий недоуменно.
Так за кулисами, когда Игорь был на сцене, Маяковский декламировал минут с двадцать. Эти двадцать минут показали мне его характер яснее, чем два года последующих встреч.
Маяковского снедало болезненное, доходившее до смешного честолюбие.
Он хотел прославиться, прославиться, во что бы то ни стало — какой угодно ценой! И чтобы хоть отчасти залить тот страшный, завистливый огонь, что его пожирал при успехе соперника, он должен был отвести душу своим успехом даже перед двумя театральными рабочими!
Теперь стали понятными и жёлтая кофта, и поэма «Владимир Маяковский», и упоминание его фамилии, так часто встречающейся в его стихах.
Вспомнив, однако, что Пётр Иванович Добчинский очень усердствовал перед Хлестаковым, чтобы тот упомянул „в столицах”, что вот в таком-то городе живет Пётр Иванович Добчинский, — тщеславие Маяковского не явится большой новостью. — Это был Пётр Иванович, начавший писать стихи и стремившийся сделаться поэтом.
После вечера Маяковский весьма вежливо усадил меня ещё с кем-то на такси и — места для него внутри не было — стал на подножку, длинной своей рукой указывая шофёру дорогу, и докатил до некоего дома на некоторой улице (кажется, на Арбате — я не знаю Москвы).
Боюсь ошибиться, но в моей памяти хозяйка — небольшая и очень вульгарная стриженая женщина — была представлена мне как „сестра жены Брюсова”.14![]()
![]()
![]()
Другой Бурлюк, не такой толстый, гневно, торопливо бегал по комнате. Гнев был направлен на Сергея Яблоновского, только что напечатавшего в «Русском слове» очень резкую статью о накануне открывшейся выставке футуристов;17![]()
— Послать его к дьяволу! — кричал сердито толстый купчик, оказавшийся художником Лентуловым. — Завтра мы ему ответим.
Смачное ругательство, совершенно недопустимое в обществе, хлопнуло, как ракета. Лентулов любил крепкие слова.
Звонок... Какая-то пышногрудая, очень уверенная в себе, прилично одетая дама вошла в переднюю.
— Мар-руська!18![]()
— Володька, ты опять меня будешь мять при всех?! — засмеялась дама, вылезая из шубы. Она была, безусловно, ясновидящей. Вскоре её визг — не совсем недовольный — разнёсся по дому. Футуристический кентавр с кентаврихою попрыгали, отдали дань игре своих чувств и побежали к напиткам.
Вскоре приехал запоздавший Северянин. Он был нервен и стеснялся — и это стесняло москвичей. Если бы он вместо обычной своей светскости подошел к хозяйке и хлопнул её ладонью по спине, он был бы “свой”. Но он сидел в углу, хмурясь, и глаза его бегали, как пойманные звери.
— Вы слышите, что они говорят? — наклонил он ко мне свою огромную голову. — Поедемте.
— Я хочу поблагодарить.
Он уехал один.
Едва захлопнулась дверь — whoopee19![]()
Кентавриха Маруська, шевеля боками, дыша теплотой, удобно устроилась около меня рядом.
— Вы одни в Москве? Сколько вам лет?.. Поэты в Петрограде живут так же весело, как у нас?.. Конечно, у нас весело... Ах, мой дорогой, — позвольте вам сказать, — мы люди без предрассудков... Ну, вот я замужем, но муж не вмешивается в мою частную жизнь: что хочу, то и делаю! Поняли? — и она очень деликатно, сильными, здоровыми пальцами взяла меня за подбородок. Я так же деликатно взял её руку и положил на место.
Кентавриха отошла скучающе.
Приходили новые лица.
Какой-то волосатый, мечтательного вида господин — не то француз, не то румын — подсел ко мне, спрашивая о моём впечатлении от Москвы.
— Впечатление?.. Что-нибудь одно из двух: если Москва — сердце России, то Петроград — не Россия, если Петроград — Европа, то Москва — Азия. Это два полюса. В Москве я, коренной великоросс, но воспитавшийся в Петрограде, чувствую себя иностранцем. У меня здесь совершенно такое же ощущение, какое волновало меня в Киото, в Японии — всё ново, всё смешано, всё далеко от настоящей цивилизации, заедаемой своеобразным, вцепившимся когтями в землю бытом. Что стоят хотя бы эти футуристы!?
— Сарынь на кичку — ядрёный лапоть! — истерически перебил нас курчавый, краснолицый и недалёкий Вася Каменский; это он декламировал своего «Стеньку Разина».
— Гениально!.. — поощрительно басил Лентулов. — Но я тебе лучше покажу. Нет — при всех нельзя. Чтобы разыграть вещь — тут мне нужна дама. Кто хочет?
— Я! — радостно завизжала стареющая хозяйка дома, которой Эмиль Верхарн посвятил свой портрет. Компания, гогоча, пошла вслед за ними. Минут через 10 все вышли, необычайно довольные и возбуждённые. Как оказалось, Лентулов — на потеху публике — занимался инсценировкой одного забавного приключения, за которое он только что был оштрафован мировым судьёй. За что? За то, что, будучи в кинематографе, не совсем достойно вёл себя в темноте с соседкой-гимназисткой.
Если бы я остался дольше, мне пришлось бы услыхать “азбуку”, сочинённую той же предприимчивой хозяйкой дома, которая, по словам пьяного рыжего футуриста-заики, оставлявшего нас, была „шедевром эротомании”.
Я покидал нелепый дом с мыслями, перепутанными до крайности.
В той свистопляске, что только что промелькнула пред моими глазами, не было уважения не только к гостям, но и к самим себе. Это была даже не богема. Это было самое настоящее дно, с которого приглашали всех, кому нечего было делать, и кто почитал развязность языка признаком великой свободы духа.
— Вы часто посещаете такие собрания? — спросил я красавицу Матвееву, почтившую меня возможностью проводить её до дома.
— Иногда...
— Вас не коробит от этого общества?
— Идёшь со скуки. Скучно жить.
Мы подъезжали к её большому спящему дому.
— Я бы пригласила вас к себе, — сказала она просто, — но у меня муж дома... Когда вы уезжаете из Москвы?
— Завтра вечером.
— И билет взят?
— Взят.
— Я поцелую вас на прощанье за ваше стихотворение «Япония». Прощайте! — И, закутавшись в свои меха, она скрылась за тяжёлой дверью.
Больше я так и не видел её никогда. Что стало теперь от её красоты? И жива ли она?
...На следующий день — на футуристической выставке.
Лентулов — ноги на стуле — сидел у входа, лукаво подмигивая на стену: над его головой был прибит серый лист бумаги, на котором загогулинами, похожими отдалённо на мозговые извилины, была выпущена из тюба жёлтая охра. Под загогулинами красовалась надпись: «Мозги Сергея Яблоновского». Выходка имела необычайный успех у художников, но залы были пусты.
Маяковский тогда тоже выставил две или три картины — одна была составлена из половины цилиндра, ножниц и кусков жести.20![]()
Я скучал на скамейке, думая, что самым лучшим названием для выставки было бы такое: ищем дураков. В этом материале в России никогда не было недостатка.
Какая-то дама, дыша хорошими духами, ходила около картин, растолковывая их смысл почтенного вида старичку, оказавшемуся московским профессором.
Покинув его, дама подошла ко мне и плотно села на скамью.
— Ну что? — спросила она, смеясь серыми наглыми глазами, — изумили вас вчера?..
И она захохотала от души.
— Вы знаете, почему я спрашивала, сколько вам лет?.. Потому, что у вас был такой детский, испуганный вид... Господи, Боже мой! Вот ещё младенец нашёлся!
Наглые глаза опять оглянули меня.
— У вас есть папа?
— Да.
— И мама?
— Так же, как у вас, надеюсь.
— И они, несомненно, говорят вам: если ты будешь якшаться с этими футуристами, то я не дам тебе поездок за границу, которые вы так любите.
— Они этого не говорят, но похвалить то, что делалось у вас вчера, — невозможно.
— Почему?
— Потому что с детских лет воспитание старалось сделать из нас культурных людей. А вчера у вас я чувствовал, что обрастаю шерстью, и пещерные люди, давая мне дубинку, кричат: „Прыгай за нами”. И вы думаете — это похвально подставлять себя широким лапам Маяковского при всём честном народе?
— Володька очень необуздан, — был ответ. — Но ведь там же мы все — свои люди. Ну, да. Отчасти вы правы. Они перебарщивают. Но всё-таки, — она погрозила пальцем, — не слушайтесь папы и мамы! Вы — взрослый человек!
И, подняв свой гордый бюст, шевеля крепкими боками, вышла, весьма довольная собой, своим богатырским здоровьем и даже, вероятно, картинами Татлина, висевшими напротив на стене.
Тогда, признаться, имя Татлина не внушало мне никаких особенных идей. Теперь — внушает, хотя идеи эти и не совсем артистического порядка.
В описываемое время студия Татлина помещалась на седьмом этаже дома №33 по Старой Басманной, только что построенном широкой московской барыней Л.А. Черновой.
Помещение примыкало к огромной кладовой, хранившей накопленные несколькими поколениями вещи — в том числе прекрасную французскую и русскую мебель и огромные дедовские зеркала.
Во время революции Татлин сделался коммунистом и гением. Его гениальность не помешала ему разбазарить стоявшие там битком набитые сундуки, продав всё, вплоть до коллекции детских кукол жены автора этих строк. Дом принадлежал её матери.
— Я видела Татлина на кустарной выставке, — рассказывала мне Л.А. Чернова в Ницце. — Он там изображал слепца и играл на балалайке. Мне сказали, что это талантливый художник, и вдруг — балалайка... Ну, я его и пустила на время из жалости...
Предприимчивый “слепец” не хотел, однако, позабыть своего отношения к кустарной выставке. В кладовой стояла купленная там же резная русская столовая. Он и её продал..
Отгрохотал, потушил свои слёзы и истерики пятнадцатый год.
Петроградская «Астория» была полна офицерами, дамами и бутылками «Абрау-Дюрсо», продававшимися чрезвычайно дёшево.
После фронта, где мне только что пришлось попасть в неразбериху Свенцянского прорыва,21![]()
Снова начались поэзовечера, — и вечера просто. Тут-то, у Марсова поля, зажёг свои огни «Привал комедиантов»22![]()
После одного из поэзовечеров кто-то завёл меня в «Привал», где ослепляли глаза жёлто-красно-коричневые лошади и цветы стенной росписи Александра Яковлева.23![]()
— Лиля, — сказал он, подводя меня к сидевшей на диване очень бледной молодой даме. — „Концерт фонариков”... Познакомьтесь — Лиля Брик.
— „Концерт фонариков”! — засмеялась г-жа Брик, протягивая нервную, худую руку (ногти руки были наполированы почти до красноты). — Мне нравится это выражение в вашем стихотворении.24![]()
Огромные веки на бледном лице поднялись — у Брик были прекрасные живые глаза и очень накрашенный рот.
— Шаль! — сказал Маяковский и, расплывшись в широкую улыбку, поправил ей жёлтую испанскую шаль. Красный, нелепый, неуклюжий рядом с этой небольшой бледной нервной женщиной с умным и честным лицом, Маяковский удивлял невольно.
— Сядем, потолкуем о стихах, — сказала Брик, отодвигаясь в угол. — Володя, сюда...
Маяковский (уже не „Володька”), согнув свои длиннейшие колени, неловко прополз в уголок и, просунув руку под шаль, полуобнял свою соседку.
И вправду: Маяковский был нежен, был предупредителен сейчас. Он показывал эту нежность невольно, сердясь на себя и будучи не в силах бороться со своей влюблённостью.
Кто бы думал, что “жестяной” человек может быть таким сентиментальным? Так я и вижу его сейчас: красное лицо, выдающаяся нижняя челюсть, заходящая за верхнюю, упрямый подстриженный лоб (он был солдатом в это время) — и эта невольная улыбка гордого довольства, не сходившая с лица.
Потом к нам подсел маленького роста человек в пенсне. Маяковский отрекомендовал его снисходительно:
— Брик. Мой друг.
После этого я встречался с Бриками запросто много раз и только сейчас, после смерти Маяковского, узнал, что „мой друг” — муж Лили Брик. А я всё время принимал его за брата. Это показывает, каким полным хозяином чувствовал себя Маяковский в этом menage en trois.26![]()
Несмотря на странную эту связь, у меня сохранилось к m-me Брик большое уважение и сожаление о том, что ей, умной женщине, пришлось идти на такую трагикомическую сделку с жизнью. Её бледное, почти белое лицо, её образ всегда будут окрашены для меня светом холодной ясности, почти неживой пустоты. Её легко можно было принять за портрет XVIII века, покинувший раму для ночной прогулки по Петрограду и утром возвратившийся на полотно.
А сейчас, после смерти Маяковского, мне просто жалко эту нервную, больную женщину. Что должна была она пережить!.. Только с ней, с Брик, Маяковский и был „облаком”. С остальными это был блеффёр, относившийся к “ближнему” со снисходительным презрением человека к вертящейся около него собаке.
Русская интеллигенция всегда была хорошей поставщицей рабов, ищущих хозяина (вспомним лишь тургеневский «Дым» и за ним «Бесов» Достоевского). Маяковский чувствовал себя хозяином. Как всегда в таких случаях, его превосходство было только внешним, и он отлично понимал это. Вот пример.
Как-то небрежно, вскользь, как всегда, спросил он меня, читал ли я последнее его стихотворение, только что напечатанное.
— Читал.
— Раскусили?
— Очень напыщенно и очень риторично.
Маяковский, смехом скрадывая неловкость, про себя цедит сквозь зубы, косясь:
— Челюсти слабы...
Я (в том же тоне):
— Конечно, конечно... Мы, слава Богу, и не собираемся победить вас в этом смысле. Ещё из Библии известно, что нижней челюстью Маяковского Самсон победил филистимлян.
Маяковский ничего не ответил на это. Невоспитанный человек, он признавал и над собою только власть ответной дерзости.
После этого (смешно сказать) у нас наладились прекрасные отношения. Я любил наблюдать этого человека-машину.
Он редко сидел на месте, он не мог долго сидеть. Непременно нужно сорваться, убежать куда-то и начать мерить своими длинными шажищами комнату.
Часто, прогуливаясь так, он бормотал что-то и затем, смотря на уходящий под ногами пол, начинал шагать снова.
Секрет этих “прогулок” был раскрыт совершенно случайно. Однажды в том же «Привале комедиантов» Маяковский покинул нас, отойдя в сторону “для прогулки”.
Я позвал его.
— Не мешайте мне: я работаю, — нервно сказал он.
— ?!!
— Сочиняю... ну!
И снова заходил по ковру.
Сев за столик, я долго, с любопытством разглядывал эту сосредоточенную человеческую машину, сочиняющую стихи. Это было так непохоже на всё, что давал мне мой личный внутренний опыт, и что так прекрасно было описано Пушкиным:
Сейчас же звучали только тарелки в буфете. И Маяковский, тяжело шагающий, менее всего походил на свободного поэта. Это был раб, прикованный цепью к своему труду.
Было ли это вдохновение? Нет, вдохновленные поэты так не творят. Они просто расправляют крылья и летят за огнём небес. И это не даётся ни школой, ни “цехами”, ни волей, ни трудом. Это — от Бога. Так творили из современных нам Фофанов, Лохвицкая, Блок, написавший свою «Снежную маску» в несколько дней (иногда, судя по датам, по девяти стихотворений в сутки), Северянин и Городецкий в период «Яри».
В 1909 году я спрашивал Городецкого, часто ли он сочиняет на улице — под музыку города, под голоса трамваев и толпы... Он мне ответил:
— Однажды я гулял по Невскому. У меня не было бумаги. И я сочинил длинную поэму, казавшуюся мне прекрасной. Мой восторг был так велик, что я шёл, кусая губы, чтобы не заплакать. В памяти моей сохранились только первые строфы, что я и напечатал:
В том же 1909 году на Галерной улице, недалеко от редакции «Биржевых ведомостей», куда я ходил к Ясинскому, печатавшему мои стихи в «Новом слове», я встретил Блока. Одетый в прекрасно сшитое лёгкое чёрное пальто, в котелке, он шёл, закинув голову в весеннее небо, — весь там, наверху — преображённый, вдохновенный... И встречные оборачивались на него, как на чудака, не понимая, что происходит с таким приличным, красивым молодым барином. А я знал, что с ним происходило, и был счастлив тем, что видел его в минуту творчества. На “творящего” же Маяковского было жалко смотреть. Казалось: вот этот человек тоже хочет улететь, “пыжится”, пыхтит, делает физическое усилие — и не может. Тогда, чтобы подняться к небу, он воздвигает словесную башню. С великими усилиями, слово за словом, напрягая волю, он строит здание для будущего полёта — и когда воздвигает его, уже падает изнеможённый: на полёт у него нет силы. Да и может ли он лететь? Для этого у него нет небольшого: крыльев.
...Однако у Маяковского было одно хорошее достоинство для писателя: сарказм.
Сидя в дальнем углу «Привала», развалившись, руки на спинке дивана, с неподвижным лицом вглядывался он на входящих посетителей, и от нижней челюсти его до ушей змеилась тонкая, нечеловечески презрительная улыбка.
— Кто это? — спросил я однажды про очень тощего, преждевременно поседевшего молодого человека на журавлиных ногах, уже гнувшихся в коленах.
— Это каракатица! — не меняя положения своего, ответил Маяковский. — Это, мой дорогой, с позволения сказать, поэт, преждевременно поседевший от своей собственной бездарности. Раз в год он высиживает стихотворение и носится с ним, как с тухлым яйцом, разбивая его о головы своих друзей и знакомых. Он не знает своего призвания. Ему нужно быть учителем чистописания в купеческом доме с лампадками.
„Каракатица” звалась Георгием Адамовичем.
— А та блондиночка, рядом?.. Это двуногое существо живёт эстетизмом и утренними воспоминаниями от ночных приключений с акмеистами. Её имя? Поросячье (он произносил: „Паарасячье”)... Помните Евангелие? Легион!
...Однажды студента-поэта Александра Ш., очень лживого мальчика, он смутил протестующим возгласом:
— Пра-ашу не садиться со мною... От вас нафталином несёт, мой дорогой... Нафталином.
— Ничего подобного! — забормотал студентик, — это новый пиджак, нынешнего года. И пальто моё тоже новое...
— Нафталином несёт за три версты. Откуда вы сейчас?
— От Мережковских.
— Пра-астите, я ошибся, — привстаёт Маяковский, — это, значит, мертвечиной пахнет. Трупный запах.
— Ничего подобного, — возмущается студентик, — Зинаида Николаевна только что написала прекрасное стихотворение... Протест против переименования Петербурга в Петроград.
— Прочти, прочти, — переходя на “ты”, улыбается Маяковский снисходительно.
Студентик с жаром читает истерические вирши г-жи Гиппиус: „Петроград? Кому это нужно? Славянщине убогой?”29![]()
— Нужно, чтобы сама Гиппиус преподнесла эти стихозы на своём «Зелёном кольце»30![]()
![]()
И он захохотал довольный.
Зимой шестнадцатого года в частном доме Маяковский читал нам только что написанную им поэму «Война и мир».
Он слыл прекрасным декламатором.
Это неверно.
À 1а longue,32![]()
В поэме было много слов, много риторических фигур и очень мало поэзии. Однако замысел, размах его, стремление охватить невероятную проблему войны, то упорство, с которым Маяковский старался подчинить себе форму, волевое напряжение, вложенное в вещь, были бесспорны. После чтения, за лёгким ужином, очень тихим и очень чинным, несмотря на присутствие композитора Цибульского,33![]()
— Ви, Маяковский, — начал он, — ви раньше носили жёлтую полосатую кофту, и ми в Могилёве думали, простите меня, что ви, просто, извиняюсь за выражение, — хулиган. Я очень рад, что мне удалось попасть на этот вечер. Теперь я вижу, что ви можете писать и творить чудные вещи, и считать вас хулиганом било ошибкой с нашей стороны.
Полусонный Цыбульский счёл нужным вступиться за человека, носившего жёлтую кофту, и Маяковский в конце стола в благодарность гаркнул ему:
— Люблю трезвые речи пьяного Цыбульского!
Вскоре Цыбульский уже не мог говорить.
Покидая дом, мы натолкнулись в гостиной на человека в чёрном пальто, крестообразно и неподвижно распростёртого на полу.
Это был Цыбульский, которого я видел в первый и последний раз в моей жизни. В доме этом он тоже был в первый раз.
...В конце года в орбиту Маяковского попал книгоиздатель и книгопродавец Ясный34![]()
Эпиграмму он понял, но предпочёл не обижаться. ...Да, тогда мы шутили, пели, хохотали и... ждали чуда или грозы. Жизнь становилась похожей на кубистическую картину: всё представлялось в наклонной плоскости, в сумасшедшем сцеплении. Тонкие люди предчувствовали грядущую перемену ещё год назад.
В декабре пятнадцатого года редактор «Дня» Иона Рафаилович Кугель смутил меня несколько неожиданным предложением: не могу ли я, по образцу моих военных рассказов, дать ему очерки высшего петроградского общества в настоящее время ?
— Описание светского бала, например. Помните бал (в «Войне и мире»)?.. Жизнь золотой молодёжи в наше время... пером романиста, художественными очерками... Ну, вы знаете, одним словом... Я ничего не указываю вам — только пишите... Пишите о том, что вы сейчас видите.
Предложение это было тем более удивительным, что «День» считался самой левой газетой, был наполнен меньшевиками, Луначарский присылал туда корреспонденцию из Парижа, Лев Троцкий там сотрудничал, и эта газета менее всего подходила для описания жизни светского общества. Я спросил Кугеля, почему ему пришла эта идея?
— Потому, — сказал он, подтягивая брюки (Кугель на всю жизнь прикован к своим брюкам, как Сизиф к своим камням), — потому что жизнь эта уходит на наших глазах. Императорская Россия умирает. Вся эта повышенная радость жизни в обществе не более как пляска людей, отравленных веселящим газом. И я хочу, чтобы вы сохранили впечатление об этих бешеных годах будущим поколениям.
Милый Иона Рафаилович часто утешал меня, что я буду писать для „будущих поколений”. Думал ли он, что столько писателей, оторванных от России, разделяют сейчас эту судьбу? Но его тонкий прогноз грядущих событий уже не удивляет, а восхищает меня. Петроград танцевал на пороховом погребе, и мы танцевали с ним вместе. Выставки, балы, поэзия, «Медведь» и «Астория», прогулки по городу, удивительному Невскому, поэзовечера и, наконец, словно посещение подземелья, — визит в редакцию, — всё это смешивается в голове моей вместе с памятью о “лихачах” и двух фигурах поэтов: Северянина и Маяковского.
Жизнь становилась невероятной. Незадолго перед убийством Распутина я пил чай в вагоне санитарного поезда Пуришкевича на станции Кайданы около Двинска. Мы хохотали и говорили о хиромантии. Я сказал, смеясь, что я умею гадать, Пуришкевич в зелёном кителе с огромными погонами действительного статского советника — протянул мне свою нервную, очень сухую руку, украшенную золотым женским браслетом.
— Погадайте мне, погадайте, — сказал он, мигая пухлыми своими веками. Красные пятна на его лице стали ещё краснее.
— Когда я умру? Скоро?
— Вы боитесь смерти?
— Боюсь, — сказал Пуришкевич. — Боюсь. (И это было сказано во время войны!) — Что вы видите?
Я увидел лишь, что толстая, резкая линия жизни на руке моего собеседника кончалась внезапно между 49 и 50 годами.
— Сколько проживу?
— Я вижу необычайное событие, драму, на линии вашей судьбы, Вероятно, это война, может быть, вы будете в опасном положении...
— Но не умру? Не умру?
— Поживёте ещё...
— Слава Богу, — вздохнул Пуришкевич наивно. Наивно потому, что я не специалист в хиромантии, и мы шутили.
А через несколько месяцев прогремел его выстрел во дворе Юсуповского дворца.
Не стало человека, который говорил мне однажды:
— Ты што смеешься надо мною, юнец? Ты глуп, милячок, — счастья своего не понимаешь. Студент. Студенти мозга в ученьи теряют. Был бы у меня — ты бы за мной побежал, как собака... А может, на завтра я бы тебя к царице свёл, царских деток показал... Хорошие детки... Девочки хорошие... (Он говорил: девоцки, собацька...) Алёшенька... А ты этак на меня...
И он, чернея, отвернулся к окну. Разговор происходил в купе второго класса Вологда–Петербург, ещё до войны. Распутин в сопровождении замечательно красивой крестьянской девушки в платочке ехал к царю.
Ещё любопытное предсказание.
Тогда же, в купе, после словесной перепалки, Распутин, не любивший и презиравший богатых, цедил мне сквозь зубы:
— Вы, богаци (богачи), думаете, вся земля, вся Расея вам принадлежит?.. Поплачетесь, богаци, поплачетесь. Всё потеряете.
Он не сказал, как и почему потеряем мы, но всё-таки, не удивительно ли? Эта грязная шельма обладала очень развитым солнечным сплетением, которое, как известно, является нашим радиоприёмником, читающим в неизвестном.
...И вот — тень убитого Распутина, невидимая, всё ещё ходила по Петрограду. Николай Второй терял голову и сжимал страну.
Чинные отряды солдат всё ещё маршировали по чуть заснеженным петроградским улицам. На фронте бились, в столицах наживались, и сыновья прачек покупали у антикваров “портреты предков”.
Журналист Александр Абрамович Поляков уверял меня, что один из его знакомых даже ложился спать с полученным “Станиславом”. Он прицеплял его на пижаму и лежал, растянувшись на спине, „как гордый покойник”, грудь колесом, “Станислав” на груди, и “портреты предков”, заказанные специально под стиль XVIII века, по стенам...
Это был тип интеллигента, о котором, как о верёвке в доме повешенного, не любили говорить наши политические филистеры.
Каждый из нас, конечно, имел своего “присяжного поверенного”, который, получая бешеный гонорар, внезапно разбогател удачею своих доверителей.
С одним из них — очень культурным и предупредительным евреем X. — я познакомился благодаря друзьям Маяковского.
X. только что переселился в роскошную квартиру у Таврического сада — в двух шагах от огромного “двухквартирного” помещения Н.Н. Покровского, где весело возились два его сына — юнкера Николаевского Кавалерийского училища.
X. был женат на милой русской барышне, моложе его двадцатью годами.
В доме часто звучала французская речь — румынский дипломат и депутат г. Плеснилла, один из лучших ораторов своей страны, был там нередким гостем. Весёлый прожигатель жизни, обаятельный в обществе, он жил в Петрограде, исполняя роль “ока” румынского правительства в русской столице. На скрипке он не играл, но зато любил чтение.
— Я хочу вам показать свою библиотеку, — лукаво говорил он своим гостям, навещавшим его в «Европейской гостинице», — и открывал маленький шкафчик, битком набитый ликёрами.
После одного из таких “чтений” я отвозил г-жу X. к Таврическому саду, к её “присяжному” мужу. Длинная лента автомобилей и придворных карет, форейторы в красных ливреях с чёрными гербами стояли у подъезда гостиницы. Петроград принимал междусоюзную конференцию.35![]()
— Маяковский идёт! — вскрикнула X., заметив фигуру высокого солдата, шагавшего у гостиницы, отчётливо козыряя офицерам. Промелькнули красные лацканы генерала Поливанова. Маяковский повернулся на каблуках, замер — отдал честь и зашагал снова. Что думал он в этот момент, он, блеффёр, “гений”, поэт, актёр? Несомненно, отсылал ко всем чертям и Поливанова, и, главное, свою солдатскую форму.
— Очень жалко Маяковского, — сказала X., кутаясь в свои соболя. — Он теперь стал нюхать кокаин!
— Не может быть! Он слишком здоров для этого.
— Уверяю вас. И всё больше и больше.
Я не поверил и вскоре об этом же спросил Брика (мужа).
— Что ж в этом особенного?.. Нюхает, — сказал тот не без странной весёлости. — Мы тоже иногда балуемся.
В тот же вечер я имел небольшой разговор с Маяковским. Он, как и я, знал поэта Андрея Виноградова36![]()
Маяковский посмотрел на меня, улыбнулся неожиданно и встал, не сказав ни слова.
На сколько лет теперь хватит его, если он будет продолжать свои кокаиновые шалости? — подумал я.
С этого момента я стал считать его обречённым.
Потом грянула революция. Всё завертелось в чёртовом колесе. Немецкие провокаторы — неопределённого вида люди — ходили по Невскому и кричали на летучих митингах:
— Мы ли не протянем руку немецкому пролетариату?!
На заседании Петроградского совета, когда под председательством Гвоздева решался вопрос о восьмичасовом рабочем дне, я слышал, как сзади меня какой-то толстый бритый тип в рыжем пальто, с бегающими глазками шептал сидевшему за мной газетному сотруднику:
— И напишите, значит: на заседании много говорили о прекращении войны с Германией.
Он повторил это два раза, причём на заседании о прекращении войны даже и не заикнулись.
В эти безумные, тоскливые дни Великий князь Николай Михайлович в старом пальтишке всё ещё продолжал утренние прогулки у своего дворца, а на Невском матросы уже не стеснялись толкать плечом прогуливавшихся адмиралов.
Мичман Раскольников, которого шесть месяцев назад я знал как Фёдора Фёдоровича Ильина, моего товарища по институту и когда-то первого критика моих стихов, провозглашал республику в Кронштадте.
Над панелями, усыпанными шелухой семечек, излузганных новыми гражданами в красных бантах, висели афиши: „Искусство на улицу!”
На улицах в действительности прогуливался пьяный срам, но — как ни странно — книги стихов расходились великолепно.
Наш последний сборник с Игорем Северяниным «Острова очарований», напечатанный в семи тысячах экземпляров, разошёлся в четыре месяца.
Брик в зале Тенишевского училища читал о Маяковском (теперь он имеет великолепную тему: «Маяковский и моя жена»).
А около Тенишевского училища, на Моховой, Александр Николаевич Волжин, бывший обер-прокурор, чудесный и нетрусливый человек, спрашивал меня тревожно:
— Скажите, будет Варфоломеевская ночь? Говорят, что уже назначена дата, и мы на примете... Скажите, надо уезжать?.. Я останусь... но моя семья?..
Весенние мошки летели из раскрытого окна на огромный жёлтый абажур его лампы. Мошки так же верили в Керенского, как и мы сами.
В эти дни в Михайловском театре был объявлен митинг деятелей искусства.37![]()
На три часа театр превратился в пантеон живых знаменитостей. Художники, поэты, композиторы, писатели, актёры — в ложах, в партере, у трибуны, где толстый Глазунов бросил сумрачно:
— Я не пойду в одну комиссию вместе с Прокофьевым! (А Прокофьев всё-таки талантливее его!)
На время появился сутулый и усатый Горький в пиджаке — и вскоре скрылся, устыжённый тем, что происходило в зале. Стыдно было и Глазунову.
Лысый Кузмин, окружённый молодыми полудевами в пиджаках, неистово кричал, стоя слева от сцены. “Известности” ржали, бунтовали и вели себя как потерявшее дорогу овечье стадо.
С эстрады какой-то певчий Александро-Невской лавры истошно кричал о том, что певчие получают недостаточно, и что если бы не купеческие похороны и свадьбы — им была бы крышка.
Не помог и умно протестовавший Зданевич. Зал гигикал и хохотал. Ораторов не было слышно. Кто-то всходил на трибуну, кто-то уходил.
Во всём этом месиве восхищал лишь один Влад. Ник. Набоков, председательствовавший с необыкновенным джентльменством. Человек общества — в какую компанию он попал сейчас! Он звонил, умолял — всё с любезным отчаянием. Ничего не помогало.
Впереди меня стоял Маяковский. Он тоже говорить хотел.
— О чем?
— Услышите.
Он был в гимнастёрке. С первого дня революции Маяковский, до того тщательно скрывавший свою солдатчину, щеголял ею не меньше, чем своим красным бантом. Он волновался. Его коротко подстриженный затылок — прямо против моих глаз — наливался кровью. Маяковский поправлял свою гимнастёрку, пояс — всё быстро, нервничая, без своей обычной наигранной беспечности. Наконец он вышел.
От человека, который не так давно швырял в публику стульями, можно было ожидать храбрости — презрения к этой интеллигенции, ставшей стадом, Что скажет он теперь?
Маяковский встал, упёрся двумя руками в концы стола и “пролаял” не совсем грамотно и очень однотонно весьма неопределённую и очень хитрую речь, напоминавшую иезуитские речи блаженной памяти временного председателя Временного правительства князя Львова.
— Министерство искусств? Оно, конечно, это хорошо. А те, кто против такого министерства? Оно, конечно, — они тоже, может быть, правы.
Публика аплодировала бешено. Они стоили друг друга. Маяковский улыбнулся и сошел со сцены. Ему нужно было лишь показаться, утолить своё тщеславие — и он был доволен. Он не говорил против министерства потому, что это был проект Горького, у которого он печатался в «Летописи». Он был не против Зданевича и “левых” потому, что его бы обвинили в ретроградстве, а Маяковский был человек себе на уме.
Так закончилась моя последняя с ним встреча.
Я уехал из Петрограда по странному совпадению в одном купе с тем Александром Яковлевым, ныне парижской знаменитостью, который расписывал стены «Привала комедиантов». Чтобы скоротать дорожное время, мы рисовали совместные карикатуры: Яковлев делал одну часть и, загибая бумажку, просил меня приделать другую.
Получались забавные вещи.
Революция шла победным шагом. Я жил в Гаграх, где красавец князь Сергей Голицын всё ещё получал письма великой княжны Татьяны, присылаемые ему из заточения. Он познакомился с ней в Царскосельском госпитале. Это был один из самых талантливых музыкантов, мною встреченных, хотя он был настолько ленив, что не мог читать нот, и играл по памяти.
Прогремел выстрел Доры Каплан.38![]()
Чёрное море, и пальмы, и горы, удивительный Кавказ, перед которым Калифорния кажется нелепой гримасой, молодость и пиры, уважение к личности и к собственности, — я бы, не задумываясь, променял сейчас свою счастливую жизнь на Таити на это время.
В девятнадцатом году в этом раю, в Сочи, я неожиданно встретил неизвестно какими путями попавшего к нам ангелоподобного (ибо он курчав и рыж) Васю Каменского. Он говорил, что надо ехать в Москву, — там жизнь, там творчество, там будущность. Я имел на этот счёт несколько иное мнение.
— А как Маяковский?
— Маяковский? Да он же всеми признанный национальный поэт сейчас. Громадина!
— Вернее: интернациональный?..
— Он пишет по-русски.
Вася уехал в Москву.
Маяковский трубил, посылал во все концы 150 000 000 Иванов, завоевывающих мир,39![]()
Он не брезгал ничем, эта гениальная машинка для выработки стихов.
Его счастье было в общем несчастье: революции был нужен поэт, а более талантливые просто не хотели её славить.
Его известность стала скорее количественной, как слава кинематографического актёра, созданного искусным режиссёром.
Режиссёром был большевизм. И он создал ему действительную славу, прокатившуюся и за границу, где чехи, поляки, американцы, мексиканцы, французы и немцы устраивали торжественные встречи и ублажали банкетами „самого выдающегося поэта страны советов”.
Год назад в приморском городе Калифорнии я нашёл английскую книгу, где Маяковский — ступенью выше — был провозглашен уже одним из самых даровитых поэтов, живущих на земле. К чести автора нужно сказать только, что он русского языка не знает и писал с чужих слов.
Маяковский пробыл в сем блаженном состоянии более одиннадцати лет.
Те, кто следил за его стихами, недоумевали. Они были не лучше, а хуже написанных в то время, когда автор их, по своему собственному признанию, —
Он всё ещё кричал, всё будировал: вот завоюем мир — „бейте в площади бунтов топот!” — вот завоюем небо! — рай на землю! Чудеса в решете! — „Выше гордых голов гряда!”41![]()
Но всё это было в большинстве не только необычайно безвкусно, но и плоско. Об этом можно сожалеть. Хорошего революционного поэта — к какой бы мы сами ни принадлежали партии — всегда надо приветствовать, ибо он... поэт.
Был ли поэтом Маяковский? Этот по видимости нелепый вопрос не лишён значения сейчас, когда академик Сакулин провозгласил его новым классиком.
Заметили ли вы, что Маяковский фатально не мог писать гладкими стихами, а когда пробовал — кончал позором.
Это неладная перестановка слов с их логического места в середину строчки.
„Дней бык пег”44![]()
Маяковский не был певцом. Это был природный заика, старавшийся петь, ибо иначе у него ничего бы не вышло. Поэтому с таким трудом, со странным напряжением он создавал каждую свою строчку, и они ложились на него каменными плитами, невероятным спудом. Надгробным памятником они ему не будут.
...Я заканчиваю статью, и в моих ушах всё ещё звенит то, почти истерическое напряжение, с которым Маяковский нам читал тогда «Войну и мир» — лучшее свое произведение.
Барабан...45![]()
Алексей Масаинов.
О. Таити. Французская Полинезия.
13 июля 1930
 памятуя о зверином чутье Давида Бурлюка на окружающих. Спутницу Давид Давидович выбрал себе под стать, руководствуясь прописной истиной: противоположности сходятся. Впитано с молоком матери, подкреплено примером отца. Семейный очаг — святое. Боже упаси подругу жизни с закидонами. Позволить приятелю лапать беременную жену? да вы с ума тут все посходили.
памятуя о зверином чутье Давида Бурлюка на окружающих. Спутницу Давид Давидович выбрал себе под стать, руководствуясь прописной истиной: противоположности сходятся. Впитано с молоком матери, подкреплено примером отца. Семейный очаг — святое. Боже упаси подругу жизни с закидонами. Позволить приятелю лапать беременную жену? да вы с ума тут все посходили. | Передвижная Выставка современного изобразительного искусства им. В.В. Каменского | ||
| карта сайта | 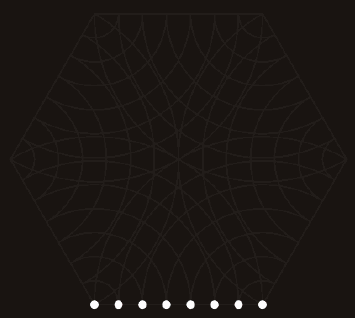 | главная страница |
| исследования | свидетельства | |
| сказания | устав | |
| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||