

„Всё, даже жизнь, я отдал бы за обретение той экспрессии и той выразительности, которую моя мысль ищет с большей страстью, чем влюблённый ищет свой кумир; я ищу эту экспрессию для того, чтобы выразить её, когда я буду умирать”. В этих словах Кьеркегора и заключается тайна искусства. Где же артисты находят эту экспрессию? В раю! Только в раю! Но рай, ведь он открыт одним детям; взрослым он и не доступен, и не нужен. Взрослым в раю скучно; они угрюмы, пресыщены, и первобытная свежесть и непосредственность рая кажется им пресной. Если проводить литературную параллель, то «Ад» Данте гораздо всем понятнее и ближе, чем его «Рай», никому не нужный. Ад — местопребывание взрослых, но удивительнее всего то, что его обитатели почему-то отрицают существование рая, опровергая его “с точки зрения современной науки”. Между тем последний комментатор «Божественной комедии» утверждает, что положения, выдвинутые о. Тейаром де Шарденом в его прогремевшей книге «Человеческий феномен», нисколько не противоречат теодицее и космогонии, утверждаемой Дантом в его «Рае».
Рай отрицают ещё и по той причине, что со второй четверти 20 века уже всякая попытка создания положительной красоты в искусстве была обречена на катастрофическую неудачу. Положительное ведь почти никогда не возможно; только отрицательное осуществимо. Здесь загадка искусства, на которую никогда не было ответа. Быть может, отрицательное осуществляется в плане феноменальном, а положительное живет только в плане ноуменальном. Блок говорит: „Чем больнее феноменальной душе, тем ясней миры ноуменальные” (Дневник). Но от ясности постижения до осуществления путь неизмеримый.
Ад современности лучше всех показан Пикассо; артист выразил свое впечатление от безобразной действительности современного мира. “Уродливая” живопись Пикассо — это экспрессия зафиксированной им реальности, его постижение феноменального мира. В силу своей абсолютной артистической честности Пикассо не может создать прекрасное с точки зрения канона чистой красоты; ноуменальное постижение мира приобретает у Пикассо этот уродливый феноменальный вид. Иногда только он позволяет себе забыться и делает волшебные рисунки своих тореро, масок, амуров и пр.
В моей памяти три поэта странным образом связаны с ноуменальным ощущением “детского рая”: Жерар де Нерваль, Хлебников и Мандельштам. Все трое были безумцами. Помешательство Нерваля известно всем; Хлебников считался то ли юродивым, то ли идиотом; Мандельштам был при всех своих чудачествах нормален, и только в контакте с поэзией впадал в состояние священного безумия.
Но все три поэта вполне подходят под высшую категорию тех, о ком говорит Платон:
„Celui qui sans le délire des Muses arrive portes poétiques persuadé que par la technique, il deviendra un passable poete, s’est un incomplet, car la poésie de l’homme sensé est eclipsée par celle des délirants” (Phedre)
Кто же такой Нерваль?
В большом старинном доме на Фонтанке вблизи Летнего сада из окна, выходившего во двор, на соседней глухой стене в сажень толщиной проступала леонардовская плесень; вглядевшись в неё, можно было отчётливо видеть силуэт в цилиндре и плаще, куда-то бегущий. О.А. Глебова-Судейкина говорила, смотря на эту тень: „Вот опять маленький Нерваль бежит по Парижу”.
Все друзья, бывавшие в доме на Фонтанке, знали и любили призрачного поэта в призрачном Петербурге. Но в те годы поэзия Нерваля в нашем кругу почему-то не упоминалась; моя встреча с нею произошла несколько лет тому назад в Сан-Франциско, городе, тоже призрачном своими туманами и поющими в тумане рогами со взморья, когда городские огни в провалах холмов блещут сквозь туман, как разноцветные леденцы. Магия сонетов Нерваля сделала для меня в те дни прошлое настоящим, т.е. сознанием целостности связи времен; „звезда воспоминанья” — легендарная тень поэта на стене дома в Петербурге — была неразрывна с его голосом, звучавшим в «Химерах», которые я заново читал в Сан-Франциско.
Нерваль — поэт не только Франции, но и Европы; он — её оправдание. Несколько таких, как он, — и «Содом» не будет разрушен. Ведь Авраам перестал торговаться с Богом после того, как не нашлось и десяти праведников. „И пошёл Господь, перестав говорить с Авраамом”.
Нерваль, которого его друзья называли “Le bon Gérard”, был именно одним из тех взрослых детей, для которых открыт рай. Безумие Нерваля было ноуменальным видением рая, но его феноменальный разум не был в силах справиться с измерениями невидимого мира. Двенадцать сонетов Нерваля — это наиболее совершенное, таинственное и волшебное выражение синтеза античного мифа и утончённого латинского эстетического опыта европейской культуры. Эти двенадцать жемчужин поэзии не превзойдены никем из поэтов-символистов. Ни Бодлер, ни Рембо, ни Малларме не сделали ничего выше и значительнее. У Нерваля был в его безумии тот же профетический опыт сознания и чувствования, то же эсхатологическое чувство одержимости поэзией, как у Хлебникова и у Мандельштама, но задолго до них. Тихий, кроткий Нерваль находился в той стихии демонов трансцендентного мира, о котором потом Бодлер скажет:
В тот же дом на Фонтанке приходил Хлебников. Он был влюблён в Ольгу Афанасьевну Глебову-Судейкину, влюблён восторженно и возвышенно-безнадёжно, ничем свою влюблённость не обнаруживая: о ней можно было только догадываться. О.А. выросла среди поэтов, понимала их, любила и знала их судьбу. Мило относясь к Хлебникову, О.А. иногда приглашала его к чаю. Эта петербургская фея кукол, наряженная в пышные, летучие, светло-голубые шелка, сидела за столом, уставленным старинным фарфором, улыбалась и разливала чай. Хлебникова я помню во всем величии его святой бедности: он был одет в длинный сюртук, может быть, чужой, из коротких рукавов торчали его тонкие, аскетические руки. Манжет он не носил. Сидел нахохлившись, как сова, серьёзный и строгий. Молча он пил чай с печеньем и только изредка ронял отдельные слова. Однажды О.А. попросила его прочесть какие-нибудь свои стихи. Он ничего не ответил, но после довольно длинной паузы раздался его голос, глухой, негромкий, с интонациями серьёзного ребенка:
Мы потом часто повторяли эти слова и любили их, с нежностью вспоминая прелестную чистоту этих интонаций. Позднее это стихотворение приняло в печати иную форму:
Когда говорят о человеке в его присутствии так, как если бы его здесь не было, и человек этот не реагирует на разговор о нём, то это означает, что он достиг какой-то подлинной, высокой степени человечности; у таких людей нет эгоцентрической реакции, обращённой на самого себя. Это очень русская черта, являющаяся проявлением чистоты и духовной свободы. Хлебникова в глаза называли идиотом, и я видел, что он обидного, говорившегося о нём, не слышит и не воспринимает. Совсем как Мышкин в «Идиоте»! Хлебников при этом не был “размазней”, напротив, он умел становиться очень решительным, властным, саркастичным, но проявлял эти черты всегда только в плане идеи, в аспекте творчества, а не в плане бытовом. Хлебников был единственным встреченным мною в жизни человеком, который был абсолютно лишён бытовых реакций и бытовых проявлений. По этой причине он во многих вызывал недоумение: он был не такой, как все, следовательно — “идиот”. Хлебников говорил:
В писаниях Хлебникова, как и в нём самом, на первом плане находится детскость и подлинная, высокая чистота. Он был важный и торжественный, как бы творивший обряд жизни и поэзии. Было что-то и от языческого идола в нём, при всей его естественности и простоте. Хлебников пишет или произносит слова так, как если бы они произносились вообще в первый раз. Стихи его не имеют начала и не имеют конца. Это вообще не стихи, а обломки чего-то, обрывки фраз, осколки случайно столкнувшихся слов. Они соединяются между собой как попало, их согласованию не придаётся значения. Здесь отсутствует мера и мастерство, но всегда дышит свежесть, чистота и детскость. Вот что он писал о своём “заумном” языке:
Хлебников был для нас моральным авторитетом, нашим духовным старцем от искусства. У него не было и не могло быть никакой позы; быть для Хлебникова председателем земного шара совсем не означало дурачества или эпатирования. Он понимал свое председательство совершенно серьёзно, как и всё, что он говорил и делал. Я никогда не видел Хлебникова смеющимся; очень редко кому-нибудь удавалось его рассмешить, и тогда он улыбался, но ничего не говорил. Но поведение Хлебникова было мало понятно в артистическом кругу Петербурга, и многие злились, считали, что оно — дурачество, чепуха. Престиж эстетики утончённого мастерства, понимаемого в европейском смысле, был ещё слишком велик в то время, чтобы можно было оценить подлинную сущность Хлебникова. Между тем М.А. Кузмин, бывший одним из наиболее утончённых эстетов той эпохи, умный, тонкий и иронический, никогда над Хлебниковым не смеялся. И конечно, никакого влияния на Хлебникова Кузмин не имел; напротив. Хлебников совершенно неожиданно оказал влияние на Кузмина, который, раскрыв гностический смысл Хлебникова в последний период своей творческой жизни, нашёл у него источник вдохновения для себя. Стихи Кузмина, написанные под влиянием Хлебникова, я слышал от М.А. задолго до их напечатания, и связь их с поэзией Хлебникова была для всех нас настолько очевидна, что мы о ней даже и не говорили.
Теперь мне думается, что в то время Хлебников был тем щитом, которым бешеные мальчики от искусства отгораживались от Запада, от западной механичности и эволюционизма.
О нашем отношении к Хлебникову я летом 1917 года, неожиданно попав в его родной город, Астрахань, сообщил родителям поэта, которых я нашёл случайно, по вдохновению, вспомнив о том, что они должны там жить. Движимый желанием увидеть их и рассказать им о сыне, я нашёл дом Хлебникова; позвонил у двери, и навстречу мне вышел его отец, до смешного похожий на поэта. Через минуту, узнав о том, что гость из Петербурга, вышла мать Хлебникова; с первых же слов разговора я понял, как родители Хлебникова страдают от его трагической судьбы — бедности, непризнания и странностей его, которые им, между прочим, совсем не казались таковыми. В родителях Хлебникова, живущих в Астрахани, не было ни провинциальности, ни обывательского мещанства. Оба они расцвели, услыхав от меня о том, каким престижем обладает Хлебников в нашей среде и какой преданностью он окружён.
Хлебников умер 28 июня 1922 года в деревне, в Новгородской губернии. О его кончине я узнал от нашего общего друга, художника Петра Митурича, уехавшего в ту же деревню, вероятно, на этюды.
По его словам, он созвал несколько мужиков, которым рассказал о Хлебникове, о том, кем он был и какую он прожил жизнь. После того как Митурич и мужики опустили Хлебникова в землю, они „выкурили на его могиле трубку мира”.
Примерно через месяц в Петербурге была устроена большая футуристическая выставка. Через всю главную залу был протянут чёрный штандарт. На нем громадными буквами было написано: Памяти Велимира Хлебникова.
Настроение у всех было мрачное, и вся выставка прошла как бы под знаком негодования на судьбу, вырвавшую из среды живого искусства ещё одну жертву.
Хлебников жил вне страстей; казалось, он был лишён темперамента. Сфера его была лунной. Заворожённый, лунатик, он мог, казалось, ходить над бездной. Как у лунатика, у него было полное отсутствие страха. Нерваль был безумцем; он жил в огненной, стихийной сфере орфического безумия. Хлебников не был сумасшедшим; он был блаженным и бесстрашным. Хлебников был антиподом Мандельштама, одержимого страхом. „Не превозмочь в дремучей жизни страха” — это как бы формула Мандельштама.
Мандельштам не пил, не курил, и на моей памяти у него не было романов. И подобно тому как Хлебников был влюблён в О.А. Глебову-Судейкину, Мандельштам был безнадежно, тайно и возвышенно влюблён в другую знаменитую петербургскую светскую львицу и красавицу, Саломею А-ву, которой он посвящал свой вдохновенный бред о „соломинке, соломке, Саломее”.
Мандельштам был противоположен как Нервалю, так и Хлебникову; он боялся проявления какого бы то ни было беспорядка. Хаос приводил его в ужас. Мандельштам защищался от хаоса бытом, живя исключительно в бытовых проявлениях жизни и цепляясь за них. Подобно новому Господу, он любил строй (порядок) мирной жизни и мирного труда, ужасаясь нарушению гармонии. Мандельштам любил жизнь и обладал громадным запасом жизненных сил, которых, казалось, могло бы хватить на несколько существований; без труда умея переносить голод, холод и лишения, он не мог мириться со злом и несправедливостью. Возмущённый злом, Мандельштам был способен совершить самые неожиданные и самые опасные поступки и не задумывался над тем, к чему они его приведут. Несмотря на „страх перед дремучей жизнью” и перед хаосом, Мандельштам играл с опасностью так, как ребёнок играет с огнём или малыш в школе лезет в драку с обидевшими его большими оболтусами.
Быт Мандельштама заключался в его любви к самым простым вещам: он любил пирожные, которых мог съесть хоть дюжину, любил кататься часами на извозчике, восхищаясь свободой и тем, что он видел вокруг; в разгар революции, получив каким-то чудом комнату в «Астории», он по несколько раз в день купался в ванне, пил молоко, которое ему доставляли по ошибке, и ходил завтракать к Донону, где хозяин, потеряв голову, всем оказывал кредит. Мандельштам был смешлив и очень ласков; близких своих друзей он любил гладить по лицу с нежностью, ничего не говоря и глядя на них сияющими и добрыми глазами.
Но “рай” этого Божьего младенца сказывался, конечно, не в приведённых выше мелочах быта, а в абсолютном музыкальном самоизживании творимого образа или идеи. В этом и заключалось его подлинное, пророческое ощущение мира, как старого и обречённого, так и нового, чаемого, но ещё неосознанного. Эсхатологическое сознание было главной движущей силой Мандельштама, подлинной творческой интуицией в ее высшей категории и на большой глубине. Больше всего Мандельштаму была необходима повторность; ему казалось, что “прекрасное мгновенье”, промелькнув, должно повториться вновь и вновь. Как память строит форму в музыке, так история строила форму в поэзии Мандельштама: в ней — музыка чисел и образов, как у Платона и у пифагорейцев, находящаяся вне всякого личного переживания или чувства. Мандельштам жил в трепете и экстазе чужих страстей, никогда не своих, но всегда отражённых. Символы истории, символы государственных форм, имели над ним неограниченную, магическую власть: но застывшие исторические факты и формулы Мандельштам превращал в живой быт эпохи; “язык булыжника” был ему „голубя понятней”, и его словесная гравюра революционного Парижа, например, нам видна во всех мелочах повседневного быта. Мы привыкли думать о революционном Париже как о грозной, бушующей народной стихии, но Мандельштам нам показывает „прабабку городов”, где „камни — голуби, дома — как голубятни”, где поют песенки, жарят каштаны, а декреты Робеспьера подобны детской игре: „Здесь клички месяцам давали, как котятам”. Этот бытовой “уют”, такой неожиданный при описании террора, создан Мандельштамом оттого, что революционная буря отбушует, а камни прабабки городов с её домами, как голубятни, останутся.
Мандельштам никогда не объяснял того, о чём говорил, и ничуть не сомневался в том, что он будет понят собеседником. С теми, кто, по его мнению, не были способны его понять, Мандельштам вообще не стал бы разговаривать. Когда он сталкивался с пошлостью или глупостью, он злился, смеялся, даже хохотал. Серьёзен Мандельштам бывал только в поэтической сфере. Чтение стихов было для него каким-то обрядом; читал он торжественным и спокойным голосом, скандируя на классический лад и сопровождая кадансы пассами: он то широко разводил руками, то поднимал и опускал их перед собой таким образом, словно успокаивал разбушевавшиеся ритмические волны.
Из чтений Мандельштама мне почему-то запомнился один вечер, проведённый в странной обстановке. Однажды Мандельштам уговорил меня пойти с ним к его “меценату”, который соглашался издать литературный сборник, с тем чтобы напечатать в нём собственные стихи. Жил “меценат” на окраине Петербурга, за Невской заставой, где находились хлебные склады; старый, громадный купеческий дом “мецената” напоминал рогожинский дом в «Идиоте». Мы явились туда пешком, под вечер, и застали сборище знакомых и незнакомых; между прочим, там был и С.С. Прокофьев. Ночь прошла за чтением различных стихов, но центром внимания хозяина и его окружения был какой-то человек в сапогах бутылками, кафтане, длинноволосый, не то монах-расстрига, не то домашний мудрец, вроде Фомы Фомича Опискина. Человек этот приволок громадную книгу в полпуда весом, где им были записаны его изречения и назидания на все случаи жизни. Книгу эту он читал некоторое время вслух, при почтительном внимании хозяина, а Мандельштам ёрзал на стуле и смотрел на меня смеющимися глазами, показывая мне, что ради издания сборника, в котором у него будет возможность напечататься, он готов всё выдержать — и мецената, и его учителя жизни... Ведь, как и все подлинные поэты, Мандельштам знал, что от пыльных разговоров со скучными людьми можно всегда убежать в “детский рай”, полный чудных игрушек, — Les abolis bibelots d’inanité sonore.
За всю мою жизнь среди деятелей искусства во всех его областях я не встречал артиста более своеобразного, чем Виктор Владимирович Хлебников, „Велемир Первый, Владыка Мира”, как он себя называл. По своему внутреннему [да и внешнему] облику Хлебников был близок эксцентричным и фантастическим существам, созданным Э.Т.А. Гофманом. Как и от этих странных существ, от Хлебникова нельзя было ожидать каких-либо трезвых, разумных действий: он находился во власти иррациональной, сказочной стихии, был одержим ею так же, как бывают одержимы этой стихией дети, которые, заигравшись, страстно верят в то, что они и есть индейцы, разбойники, пираты и т.д. Иррациональность Хлебникова происходила главным образом от того, что он был в состоянии перманентного творчества, и обладал даром удивительной творческой непосредственности и свежести: не только мысли и образы, но самые предметы казались впервые явившимися на свет после того, как они побывали в его руках. Часто Хлебников не мог довести до конца начатое произведение: для того, чтобы закончить работу, ему нужны были более или менее нормальные условия существования, а поэт жил в исключительной бедности, лишённый всего. У него не было не только письменного стола, но вообще почти никакой мебели. Митурич рассказывал мне, что Хлебников раскладывал свои тетради и листы бумаги на постели и работал, стоя перед ней на коленях. Хлебникова ничто не связывало с бытовыми формами существования: он был самым антибуржуазным артистом, какого я когда-либо видел. Ни в его мышлении, ни в его работе не было ни следа буржуазности. Хлебников не выносил её, в чём бы она не проявлялась, и при всей своей доброте и кротости презирал богачей и буржуа [к ним относились посетители «Бродячей собаки», приходившие на нас поглазеть: мы их называли “фармацевтами”].
Хлебников имел привычку неожиданно появляться — свойство фантастических существ. Исчезнув, он оставлял после себя свои тетради и листы с набросками стихов, поэм, манифестов, прозы, математических вычислений и т.д. Часто он не оставлял для себя копии своих работ. Усилиями друзей все это литературное наследие, рассыпанное поэтом, приводилось в порядок. Так возникали поэмы, получившие впоследствии большую известность: так возникла пьеса «Ошибка барышни смерти». Эту пьесу Хлебников очень любил и придавал ей большое значение.
Хотя среди профессиональных литераторов, критиков и журналистов Хлебников слыл то ли за помешенного, то ли за тихого дурачка, отличительной чертой этого лжеюродивого была безупречная вежливость, воспитанность и деликатное отношение к людям, настолько деликатное, что о нём можно было свободно говорить как о светском молодом человеке особого петербургского склада. В эту эпоху петербургская манера себя держать считалась признаком особой культуры, отличавшей петербуржцев от всех других. [Блок был человеком с той же петербургской манерой себя держать, хотя по всему своему складу был полной противоположностью Хлебникову].
Второй отличительной чертой Хлебникова была его нравственная чистота и его безупречное моральное целомудрие. За все годы моего общения с Хлебниковым, т.е. на протяжении всей эпохи футуризма, я не слышал от него ни одной двусмысленности, ни одного вульгарного слова или выражения. В наши дни, когда стихийная распущенность в Европе и Америке приняла эпидемический характер, такие люди, как Хлебников, показались бы свалившимися с другой планеты.
Третьей характерной чертой поэта была его доброта. Хлебников был человек в самом глубоком смысле этого слова: он жалел людей ещё более бедных и обездоленных, чем он сам. Достаточно было Хлебникову встретить человека с тяжелой судьбой, как поэт немедленно отзывался на чужую беду, отзывался активно, стараясь помочь всем, чем мог.
Математические вычисления Хлебникова [в том числе его «Гамма будетлянина»] для большинства из нас, его друзей, оставалась загадкой. Не понимая “мистики цифр” Хлебникова, мы относились к ним с почтением, т.к. не могли допустить мысли, что наш пророк и иерофант может заниматься чепухой. Вычисления Хлебникова носили какой-то эсхатологический характер: на основании этих вычислений, он с вдохновением говорил об управлении ходом световых лучей, о том, что человек — это молния, и призывал людей читать „клинопись созвездий”. До сих пор я убежден в том, что математические расчёты Хлебникова ждут своего толкователя-учёного.
Помимо писаний о помешательстве Хлебникова, существуют ещё и лживые измышления о том, что он был эпилептиком, что он трясся, заикался и т.д. Никто из товарищей-футуристов не знал об эпилепсии Хлебникова: говорил он очень чётко, раздельно и ясно, с очень выраженными интонациями. Все эти небылицы были придуманы обывателями и буржуа, от их ненависти ко всему, что выходит за границы их понимания, не идущего дальше „обывательской лужи”, как писал Блок.
Любопытно, что Хлебников и Председатели Земного Шара на три дня опередили Октябрьскую революцию, упразднив Временное Правительство 22 октября 1917 года, чему я являюсь свидетелем. В тот день я зачем-то пришёл в Академию Художеств, где застал Хлебникова и группу друзей. „Вот, мы только что составили манифест”, обратился ко мне Хлебников. „Пожалуйста, подпишитесь. Вот содержание манифеста [цитирую по глупой статье П. Пильского о Хлебникове]: Здесь. Мариинский дворец. Временное Правительство. Всем. Всем. Всем. Правительство Земного Шара на заседании своем от 22 октября постановило: 1) Считать Временное Правительство временно несуществующим, а главнонасекомствующую А.Ф. Керенскую находящейся под строгим арестом. Как тяжело пожатье каменной десницы! Председатели Земного Шара: Петников, Лурье, Дм. и П. Петровские, статуя командора я, — Хлебников”.

| Передвижная Выставка современного изобразительного искусства им. В.В. Каменского | ||
| карта сайта | 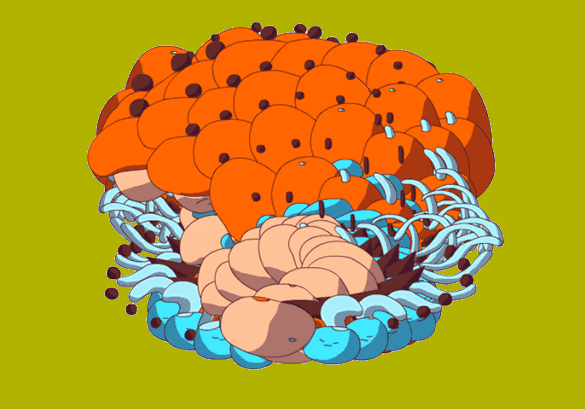 | главная страница |
| исследования | свидетельства | |
| сказания | устав | |
| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||