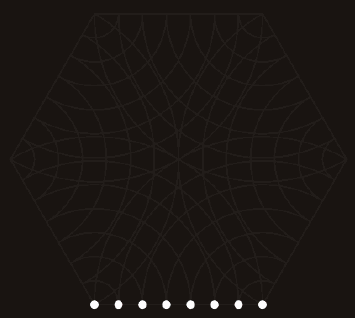А. Костерин
Силуэты 20-х годов
Из истории советского искусства

прель, 1921 год. Город Решт — центр Гилянской области Иранской республики.
Во главе Ирана — диктатор генерал Реза-хан, мечтающий с помощью англичан и русских белогвардейцев стать Реза-шахом и без излишнего шума похоронить эту молодую республику.
А в Реште — демократическое правительство Эхсануллы с твёрдой ориентацией на революционную Россию, на общий антиколониальный курс нашей страны.
Мы, то есть кавказские партизаны и моряки-балтийцы, ворвались в Энзели и Решт, преследуя русских белогвардейцев и англичан. В Реште и Энзели к концу 1920 года создалось очень дружное сообщество партизан- интернационалистов. Были среди нас русские, азербайджанцы, персы, курды, армяне, грузины, горцы Дагестана и Северного Кавказа.
В это богатое событиями время я работал в редакции газеты «Красный Иран», которая являлась органом Персидской красной армии. Там часто бывал у нас художник Мечислав Васильевич Доброковский.
Доброковский — истый петербуржец, мичман Балтийского флота. Проделав знаменитый “ледовый поход” в зиму 1917/18 года из Гельсингфорса в Петроград, он вслед за тем с отрядом моряков прошёл всю Волгу и Каспий.
До призыва во флот он учился в Военно-медицинской академии, но больше увлекался живописью и поэзией Маяковского. Ни врача, ни военного моряка из него не получилось, а художником он стал замечательным.
Ещё в Петрограде и Гельсингфорсе он достиг совершенства, работая в стиле английских художников-маринистов. Но, подхваченный вихрями революции, увлечённый бунтарскими идеями футуризма, он отказался от классических форм живописи и стал искать новые формы, достойные нашего беспокойного века.
Вначале он поражал нас „спектральным анализом”. Он утверждал, что в природе нет белого цвета, красного цвета и т.д., а есть только спектры. Они разнятся между собой лишь преобладанием той или иной своей части.
Эти свои поиски он назвал „спектральным анализом”. Его спектральные пейзажи и натюрморты нас мало убеждали. Но вот он написал два портрета — мой и члена Реввоенсовета К. Томашевского. Для обозрения портреты выставил в саду на солнце.
Мой портрет был неудачен, и Доброковский тотчас же убрал его. Но другой портрет всех нас, работников штаба, поразил яркой выразительностью, скульптурной объёмностью, живостью, умением художника раскрыть облик умного и душевного человека, каким был Томашевский. И мы единогласно оправдали поиски художника, пожелали всяческих удач на этом творческом пути. Но он неожиданно бросил живопись и увлёкся графикой. Однако и здесь не пошёл по классическим тропам, а стал искать новые пути, более „выразительные и соответствующие великой эпохе войн и революций” (слова самого Доброковского).
В Реште Доброковский был самым ярым пропагандистом футуризма. Нередко он громил наших поэтов:
Как вы смеете называться поэтом
И, серенький, чирикать, как перепел!
Сегодня надо кастетом
Кроиться миру в черепе...
Необычайность обстановки и задач, вставших перед нами в Персии, возбудили талантливого, очень эмоционально чуткого художника. Продолжая поиски новых форм в живописи и графике, он много сил отдал журналистике.
Его рисунки, появлявшиеся в газетах уже тогда, позволяли говорить о нём как об одном из лучших советских графиков. Помнится, например, его рисунок персиянки, осторожно приоткрывшей лицо, помещённый в русской газете «Красный Иран». В условиях тех лет такой рисунок был уже революционным протестом против традиций средневекового купеческого быта. Этот номер «Красного Ирана» прошёл по всему базару. Купцы жаловались на художника: „Русские нарушают законы дружбы и гостеприимства”.
Благодаря Доброковскому я получил некоторое представление о поэзии футуристов. Однажды мы с ним готовили плакат «Кавэ-кузнец», Для окончательной доработки не хватало подписи. Доброковский обещал „подумать” о ней.
На следующий день пришёл Доброковский и первым делом спросил, читали ли мы стихи Хлебникова, которые тот накануне принёс к нам в редакцию.
Он рассказал, что знает поэта ещё по работе в политотделе Каспийского флота, что вместе с ним жил в Баку, считает его величайшим поэтом современности и родоначальником футуризма.
Доброковский же подтвердил нашу догадку, что одно из стихотворений Хлебникова «Кавэ-кузнец» он заказал для плаката.
— А окажи честно, Меч, — спросил я его, — тебе самому вполне ясен смысл этого стихотворения?
Был сумрак сер и заспан.
Меха дышали наспех,
Над грудой серой пепла
Храпели горлом хрипло.
Как бабки повивальные
Над плачущим младенцем,
Стояли кузнецы у тела полуголого,
Краснея полотенцем.
Доброковский разразился филиппикой против тупоумных газетчиков, неспособных понять и почувствовать силу и красоту современной революционной поэзии. Я согласился с ним, что я “тугодум”, толстокож и бездарен, но настаивал:
— Всё так, хорошо, но вот ты, „дервиш футуризма”, скажи честно, строки Хлебникова будут понятны красноармейцам, крестьянам и ремесленникам?
Доброковский был очень правдивым человеком. Он тотчас же признавал свою ошибку, если в этом убеждался.
Глядя на эскиз своего же плаката и читая стихи Хлебникова, подумал — и в конце концов сознался:
— Да, ты прав, — для плаката это тяжело.
— Может быть, примем мой текст? — предложил я. — Слушай:
Поднял восстание против деспота
царя Зохака.
Революционным знаменем
Служил его
Красный фартук.
Кавэ-кузнец — лозунг национальной революции Персии.
Доброковский тотчас же согласился с предложенным текстом, но потребовал, чтобы стихи Хлебникова всё же были напечатаны в газете.
Гордый тем, что мой текст “перешиб” стихи „пророка русского футуризма”, я согласился напечатать произведения поэта.
— А вот эту — «Иранскую песню», — сказал Доброковский, — Хлебников посвящает мне. Мы с ним ходили по берегу речки, я пытался ловить рыбу, а Хлебников при мне начал что-то бормотать.
Я спросил, что, мол, ты говоришь? Он посмотрел на горы и полным голосом говорит: — Верю сказкам наперёд: прежде сказки — станут былью... И замолчал, побрёл по колено в воде, будто что-то разыскивал. И вот видишь, вот продолжение той строчки:
Верю сказкам наперёд:
Прежде сказки — станут былью...
Но когда дойдёт черёд,
Моё мясо станет пылью.
И когда знамёна оптом
Пронесёт толпа, ликуя,
Я проснуся, в землю втоптан,
Пыльным черепом тоскуя.
Или все свои права
Брошу будущему в печку?
Эй, черней, лугов трава!
Каменей навеки, речка!
Доброковский хорошо умел читать стихи, умел раскрыть и передать чувства и замысел поэта. И на этот раз его декламация помогла мне понять и почувствовать всю мрачность поэтического образа: я проснуся, в землю втоптан, пыльным черепом тоскуя.
Короче говоря, я стал печатать стихи Хлебникова и выплачивать ему гонорар по повышенной оценке.
Хлебников приносил стихи и получал гонорар молчаливо и отчуждённо: войдёт в комнату, положит стихи (или получит гонорар) и уйдёт. Ни здравствуй, ни прощай. И ни разу не удостоил нас, работников редакции, хотя бы краткой беседой. Только с Доброковским он о чём-то говорил и часто ходил с ним по городу. Хлебников вызывал у персов некое почти религиозное почтение и уважение.
Ему под стать был и Доброковский, такой же длинноволосый, ходивший в какой-то цветной кофте. Кажется, взял он кофту из цирковой костюмерной, захваченной моряками-балтийцами вместе с несколькими тысячами белогвардейских чемоданов.
Польза Доброковского в то время была реально ощутима. Он вырезал на линолеуме свои же рисунки для газет, создавал плакаты, писал по-персидски лозунги; в чайхане пропагандировал демократические лозунги правительства Эхсануллы. А программа его была предельно кратка и проста:
Долой англичан!
Землю крестьянам!
Да здравствует демократическая республика!
Да здравствует дружба с Советской Россией!
Рисунки Доброковского появлялись как в русской, так и в персидской печати. Но попытки наших друзей-журналистов Зарре, Хесаби и Ашури перевести стихи Хлебникова окончились неудачно. Они честно признались, что их смысл не доходит до них...
А дружба “русских дервишей” (Хлебникова и Доброковского) была нерушимой и закреплялась всё больше и больше. Поэт несомненно оказывал на художника большое влияние.
Доброковский пытался перевести стихи Хлебникова на свой изобразительный язык. Помнится мне такой рисунок в его блокноте: загадочное сфинксообразное женское лицо с мрачным взглядом больших глаз; голову венчал странный убор в виде улитки. Под рисунком подпись Хлебникова:
А по руке,
Протянутой к звёздам,
Проползёт улитка столетий.
То ли слова поэта, то ли рисунок художника, а вернее, всё вместе порождало в нас странные “космические” чувства, раскрывало бесконечность наших революционных путей, путей разрушения и созидания.
Не удивительно — все мы тогда болели “космизмом”; коммунизм для нас был уже “у ворот сегодняшнего дня”; разрушительность наших чувств не знала предела и граней: „Весь мир насилья мы разрушим!”
Доброковский и Хлебников в Реште не были одинокими “искателями” новых выразительных форм в литературе и искусстве. Немало было поэтов-партизан, стихи которых я печатал в газете «Красный Иран». Вот, например, одно из стихотворений, посвящённых Доброковскому:
Ломом ломайте ломти
Груды рудных руд,
Грудью родник пробивайте,
Телом тираньте труд...
Доброковский пытался его напечатать. Не помню, какими доводами я отбивался от художника, но всё же устоял против его нажима. Так оно и осталось только в альбоме Доброковского как свидетель больших и страстных поисков художника-новатора.
В конце июля Эхсанулла, мобилизовав все военные силы, решил прорваться к Тегерану и попытаться поднять там восстание против Реза-хана.
 Я со значительной группой кавказских партизан присоединился к нему. Своей штабной квартирой я избрал деревню Шахсевар. Сюда же мы перебросили и типографию, редакции газет, агитаторов-пропагандистов…
Я со значительной группой кавказских партизан присоединился к нему. Своей штабной квартирой я избрал деревню Шахсевар. Сюда же мы перебросили и типографию, редакции газет, агитаторов-пропагандистов…
Здесь, как и в Реште, „русские дервиши” — длинноволосые, босые, в живописных лохмотьях — тотчас же привлекли к себе внимание населения Шахсевара и окрестных деревень. Доброковский и Хлебников обосновались в чайхане, где их бесплатно кормили, поили крепким чаем. Около них всегда толпился народ — крестьяне соседних деревень и батраки двух крупных ханских поместий. Доброковский рисовал портреты всех желающих, карикатуры на Реза-хана, на англичан и по-персидски разъяснял слушателям программу Эсхануллы. Хлебников или сидел тут же, присматриваясь к посетителям и прислушиваясь к разговорам, или же исчезал, и наши разведчики иногда встречали его в окрестностях Шахсевара.
Вскоре все кавказские партизаны были эвакуированы из Баку. Я и Доброковский переехали во Владикавказ, а Хлебников — в Пятигорск.
Осень 1921 года. Ликвидация фронта и эвакуация партизан из Персии — один из последних эпизодов победоносно закончившейся гражданской войны.
Очень дружный коллектив работников ликвидированной Персармии во главе с командующим Гикало и членом Реввоенсовета Томашевским решил ехать на Северный Кавказ, в Горскую автономную Советскую социалистическую республику (была такая!). Северокавказцев влекло туда их партизанское прошлое 1918–1920 годов.
Доброковский был на распутье. Его прошлое было связано с Петербургом-Петроградом, первый революционный закал он получил от моряков Балтийского флота и с ними прошёл весь путь до Персии. А здесь, в Персии, он всем сердцем и умом соединился с нами, кавказскими партизанами.
В Баку во время ликвидации наших армейских дел я наметил свой жизненный путь: журналистика. Я решил вернуться на Северный Кавказ, чтобы описать революционные события 1917–1920 годов. Уговорил и Доброковского. Он легко согласился на моё предложение, и сам сказал почему: Хлебников уехал в Пятигорск. По нашим представлениям, от Владикавказа до Пятигорска было “рукой подать”. Мы плохо знали положение в стране. По тем временам от Владикавказа до Пятигорска было значительно дальше, чем сейчас от Москвы до Владивостока.
Во Владикавказ Гикало, Томашевский, я и Доброковский выехали через Тифлис и дальше по Военно-Грузинской дороге.
Когда Доброковский увидел Кавказ Шамиля, Кавказ Грузии, Осетии и Чечено-Ингушетии, он был буквально потрясён могучей и величавой красотой Казбека, Дарьяльского ущелья, дикостью ущелий, горных потоков, горделивой осанкой горцев, их орлиными лицами и силой их страстей. Доброковский не расставался с блокнотом, делая наброски горцев, горных селений, горных кряжей.
Во Владикавказе мы включились в работу издательства и газет. Помимо работы в газете мы организовали литературно-художественный журнал «Горская мысль», а я, кроме того, стал работать над историческим очерком «В горах Кавказа 1917–1920 гг.». Было решено, что иллюстрировать очерк будет Доброковский. Фотографии и цинкографии у нас не было, и потому художнику надлежало делать гравюры на линолеуме. В те времена достать линолеум также было нелегко. Доброковский поступил по-партизански: пошёл на станцию, осмотрел несколько вагонов и в одном из них вырезал линолеум с пола.
Вокруг газеты «Горская правда», журнала «Горская мысль», редактором которых я был, создался неплохой коллектив литераторов, поэтов, художников, публицистов.
 Здесь, во Владикавказе, среди чеченцев и осетин Доброковский нашёл поклонников поэзии Маяковского. Чеченец Заурбек Шерипов, брат героя чеченского народа Асланбека, был членом чеченского областного исполкома; осетин Дзахо Гатуев — журналист, работал в газете при Кирове — стал наиболее активным участником журнала «Горская мысль». В лице этих двух горцев Доброковский нашёл благодарных слушателей для своих высказываний о футуризме.
Здесь, во Владикавказе, среди чеченцев и осетин Доброковский нашёл поклонников поэзии Маяковского. Чеченец Заурбек Шерипов, брат героя чеченского народа Асланбека, был членом чеченского областного исполкома; осетин Дзахо Гатуев — журналист, работал в газете при Кирове — стал наиболее активным участником журнала «Горская мысль». В лице этих двух горцев Доброковский нашёл благодарных слушателей для своих высказываний о футуризме.
Зимой во Владикавказе неожиданно появился Серафимович.
Серафимовичу рисунки Доброковского не понравились. Он не принимал всерьёз поисков художника. Резкие углы, чёрно-белые пятна его просто пугали. Серафимович посоветовал мне держаться от него и от других поклонников левого искусства подальше...
Два года спустя Доброковский стал работать в журнале «Безбожник у станка».
Членом редколлегии журнала был Серафимович. О рисунках Доброковского он отзывался уже с большой похвалой и считал его лучшим выразителем современности в графическом искусстве.
Меня же поражали и привлекали страстные поиски художником новых, наиболее выразительных форм изобразительного искусства. Очень часто я с ним не соглашался, но всегда признавал его право на поиски, на самые рискованные эксперименты.
Доброковский считал, что революционная современность требует резкой выразительности воплощения, а таковым качеством обладает только графика. Но не графика Валлотона с его мягкими обтекаемыми формами, а острая, угловатая, „булыжной тяжести” и бросающаяся в глаза.
Именно эта восточная часть Кавказа вдохновила Доброковского и дала толчок его творческим силам в поисках новых графических форм.
Мы выехали с ним на места основных партизанских событий и действий — Грозный–Шатой. Надо было видеть Доброковского в те часы, когда мы с ним на арбе Ибрагима Асабаева, моего партизанского проводника-вестового, выехали из Грозного в глубь Аргунского ущелья. Художник поражался дикому нагромождению гор и скал и совершенно немыслимому смешению красок...
— Эх, жалко, я бросил спектральный анализ... Смотри, смотри, это же такая палитра!
Но от этих живописных восторгов осталась только маленькая, размером в почтовую открытку, картина, в которой художник, по моему мнению, достиг совершенства в своём спектральном анализе. Но в основном он так и остался верен своему увлечению графикой.
Портреты партизан, созданные им в новой графической манере, при первом взгляде вызывали недоумение, поражали угловатостью и массивностью тёмных пятен, но при более внимательном изучении изумляли своей реалистической выразительностью, динамичностью и портретным сходством.
По возвращении во Владикавказ из творческой поездки Доброковский более решительно и уверенно стал совершенствовать свой графический стиль. Вышла моя книжка «В горах Кавказа» с иллюстрациями Доброковского. Её единственный экземпляр остался только в Государственной библиотеке СССР имени В.И. Ленина. По ней можно судить об условиях нашей работы.
Набирали эту книжку ученики полиграфического училища, рисунки вырезали на изношенном линолеуме. Типографская краска была самодельная.
В начале 1922 года Доброковский создал рисунок горца. (Он, возможно, послужил основой для изображённого Е. Лансере всадника, который, размноженный в миллионах экземпляров, до сих “скачет” на папиросных коробках «Казбек»). Этот рисунок он создал для иллюстрации рассказа осетинского писателя К. Гатуева. Вариантов горца-всадника было сделано, по меньшей мере, с десяток. Каждый обсуждался всей группой художников, поэтов и писателей, которая сформировалась вокруг журнала «Горская мысль».
Кстати сказать, и заголовок этого журнала сделан Доброковским после очень тщательного изучения традиционных чечено-ингушских ковровых орнаментов.
До сих пор у меня хранится портрет осетинки — делегатки горского съезда Советов Варвары Джигаевой. Это была первая очень серьезная победа художника на пути творческих исканий.
Во Владикавказе Доброковский окончательно расстался с живописью и стал заниматься только графикой.
В апреле 1922 года мы переселились в Москву.
Очень хорошо запомнился первый день нашего приезда. С Казанского вокзала мы пешком пошли на квартиру к слушателю Института народов Востока Абиху. Недалеко от Красных ворот Доброковский остановился, чем-то привлечённый. Посмотрел-посмотрел — и вдруг бегом, нырнув под морду лошади извозчика, перебежал на другую сторону улицы. Оттуда он стал кричать мне:
— Иди сюда, посмотри-ка!
 Доброковский стоял перед плакатом, где был изображён худой, измождённый старик с воздетыми руками и краткая, исступленно кричащая надпись: „Помоги!”.
Доброковский стоял перед плакатом, где был изображён худой, измождённый старик с воздетыми руками и краткая, исступленно кричащая надпись: „Помоги!”.
— Вот сила! — восторгался Доброковский. — Кто это? A-а, Моор! Такой выразительности плаката у него ещё не было... не видел...
Так, буквально с первых шагов, Доброковский вошёл в Москву художников и начал знакомство с одного из ведущих — с Моора.
Работы не было. Квартиры не было. Ютились у добрых друзей и товарищей. Доброковский у Абиха, я у Серафимовича.
В память об этом тяжёлом периоде Доброковский нарисовал мой портрет в своём графическом стиле и надписал: „Костюшке — мрачности наших ВВРС-ских скитаний”.
ВВРС — это Высший Военно-Революционный Совет. Его редакционный отдел помещался в живописном особняке в переулке с мрачным названием — Мёртвый. Мы часто заходили сюда в надежде что-нибудь “подстрелить” в военных журналах.
В июле Доброковскому улыбнулась первая вполне реальная удача: в газете Московского военного округа «Красный воин» он получил заказ. Художник должен был выполнить портрет красноармейца, совершившего подвиг во время пожара и награждённого за это орденом Красного Знамени. Портретное сходство Доброковским было достигнуто полное, но весь портрет состоял как бы из чёрных пятен разной конфигурации — треугольников, прямоугольников, трапеций.
— Меч, — сказал я мрачно,— тебе нужны деньги, а за этот портрет тебя изобьют и выгонят на улицу.
— А я докажу, — ответил он, — что именно эта манера современна... Именно такая нужна для наших дней.
Он ушёл, а через два часа явился торжествующий, с деньгами и едой: портрет приняли, и завтра он появится в газете. Так в «Красном воине» стали появляться рисунки совершенно необычайного стиля. Они вызывали недоумение, удивление, споры.
Из художников первым заметил и признал Доброковского Моор. И стал его выдвигать, рекомендовать газетам и журналам.
Осенью того же года в журнале «Юный коммунист» был напечатай мой первый рассказ, и иллюстрировал его Доброковский. Затем в издательстве «Молодая гвардия» вышел отдельным изданием мой рассказ «Алая нефть». Делал эту маленькую книжечку также Доброковский. По тем временам книжка вышла огромным тиражом — десять тысяч экземпляров.
С этого времени, то есть с 1923 гoда, начался наиболее продуктивный период в развитии и творческой деятельности художника. Его взяли на постоянную работу в один из лучших журналов тех лет — «Безбожник у станка».
Редактором журнала была М. Костеловская, старая большевичка. Членом редколлегии и активным сотрудником был Серафимович. В журнале работал сильный коллектив московских художников — Моор, Черемных, Елисеев. С приходом Доброковского в журнал ворвалась сильная и свежая индустриальная струя: на его страницах появились заставки из болтов, гаек, разных инструментов, станков, изображения трансмиссий меж стихов и заметок; над станками испуганно летали, как мухи, боги, пророки и святые всех религий. Многие сюжеты разрабатывались коллективно: Доброковский рисовал индустриальную часть, а Моор — всех святых.
Стали появляться и плакаты художника. Одновременно он стал учиться во Вхутемасе и знакомиться с той молодежью, которая там росла. Впервые о Дейнеке, о Кукрыниксах я услышал от него.
К Доброковскому пришёл успех. В 1926 или 1927 году на Парижской выставке он за плакат получил золотую медаль и диплом. После Парижской выставки его рисунки были показаны на других европейских выставках.
Это был период его широкого творческого размаха. Он создавал обложки книг, иллюстрации к рассказам, плакаты. В редакциях журналов и издательств Доброковский был одним из самых желанных художников.
Его комната в доме по Звонарскому переулку была загромождена рулонами бумаги, книгами, плакатами, чертёжными принадлежностями... и рыболовной снастью.
 С альбомом и блокнотом в кармане он “обследовал” буквально всю Москву и Подмосковье. На заводе «Серп и молот» его считали “своим художником”. Поэт Яков Шведов, вышедший из цехов этого завода, оформление своих стихов получал из-под пера и рейсфедера Доброковского. Шведов и до сих пор с благодарностью вспоминает художника — с его иллюстрациями стихи поэта получали какую-то особую, “стальную” звучность.
С альбомом и блокнотом в кармане он “обследовал” буквально всю Москву и Подмосковье. На заводе «Серп и молот» его считали “своим художником”. Поэт Яков Шведов, вышедший из цехов этого завода, оформление своих стихов получал из-под пера и рейсфедера Доброковского. Шведов и до сих пор с благодарностью вспоминает художника — с его иллюстрациями стихи поэта получали какую-то особую, “стальную” звучность.
В альбомах Доброковского появлялись извозчики, рабочие у станка, в трамваях.
— Для чего тебе всё это? — спрашивал я его, проглядывая очередной блокнот.
— Такие детали нашего времени очень ценны, — отвечал он.— Всё, что мы сейчас переживаем, что строим и как, какие наши люди, — всё надо взять в этюдник. Это наш путевой багаж. Это очень ценный материал для будущего. Не то же ли самое и ты делаешь? Ты даёшь в газеты очерки, заметки, рассказы. Рассказы твои тоже, как очерки. Это — фотография сегодняшнего дня. И всё это нам для будущего.
Нередко он заходил ко мне в редакцию газеты «Известия» и помогал оформлять орган парткома и завкома — газету «Рулон». Как-то, просматривая комплект «Известий», он подверг резкой критике редакционных художников и весь их стиль оформления.
Мне показалось в его критике многое очень интересным, и я тут же записал его критическую импровизацию. Получилось резко, но очень сочно, метко и правильно.
— Это я дам в «Рулон», — сказал я. — Подпишись!
Он согласился только на соавторство. Статья попала в руки членов редколлегии, но в редакцию «Рулона» не вернулась.
Хотя со мной никто о содержании статьи не говорил, однако оформление газеты «Известия» явно изменилось в духе критических замечаний Доброковского.
А когда в порядке шефства газета «Известия» стала формировать бригаду на Кондопожскую бумажно-целлюлозную фабрику, в неё включили меня и Доброковского. Я был штатным сотрудником, а Доброковского взяли по специальному соглашению.
В Кондопоге мы прожили весь июль 1932 года.
Кроме меня, были ещё журналисты. Мы создали там агитбригаду, писали статьи и заметки в газету. Не берусь судить о результатах деятельности журналистов. У меня создалось такое впечатление, что наиболее активным и самым результативным из нас был Доброковский. Его плакаты, шаржи, лозунги, графическое оформление выступлений агитбригады встряхнули весь коллектив фабрики. У специального стенда, на котором Доброковский графически отмечал ход соревнования между сменами и цехами, с утра до вечера толпились рабочие и служащие. Смеялись, ругались, обсуждали итоги и ход соревнования.
Если наша бригада чем-то и помогла фабрике в выполнении плана, то этот успех почти целиком надо приписать действию рисунков талантливого художника.
В 30-х годах имя Доброковского на московском горизонте стало тускнеть. Редакторы стали обходить непокорного, несговорчивого художника, который не хотел ни на йоту отступать от своего стиля графики. Он был так же непримирим и воинственно настроен, как и в начале своей творческой деятельности.
Доброковскому давали работы всё меньше и меньше, но его графический стиль приобретал всё бóльшие права. Мы, его друзья, знали и видели, что стиль Доброковского утвердился в советской графике, в особенности в индустриальной тематике, но никто в печати об этом не писал. Только Моор настойчиво пытался поддержать Доброковского, неоднократно заявляя, что он сам многое заимствует от этого оригинального и талантливого художника-новатора. Он всегда дружески звал его „Пан” и предлагал совместную работу.
Сам Доброковский очень радовался успеху своих поисков, утверждению их в графике, появлению и росту молодых дарований.
По моему настоянию он пытался оформить свои взгляды и поиски в искусстве. В его блокноте есть такая запись:
Я уже 13 лет стучусь к критикам искусства, чтобы дали место — место “под луной искусства” — эстетике заводского чертежа, потому что вещи (индустриальные), которые теперь признаны, наконец, достойными искусства, ведь прежде чем быть сделанными, родились в чертеже, в его координатах — рейсшиной и рейсфедером, ведь они сделаны! Поэтому чертёжная графика их передаёт лучше, чем сухая кисть или размывка.
Душа индустриальных вещей в чертеже!
Моё искусство — это “прямо к сведению”, без художеств, если хотите. Прямо с бумаги в мозг, без пересадки на станции “импрессион”.
На моё увлечение фотографией Доброковский вначале смотрел с вежливым равнодушием, а потом, присмотревшись к моим альбомам, к общему развитию фотографии в 30-х годах, резко изменил свое отношение к ней.
В то же время, когда была сделана заметка о чертеже, Доброковский записывает свои мысли о фотографии.
• Если художник владеет мастерством, а не мастерство его держит от себя на почтительном расстоянии, если художник, что называется, “настоящий”, внутренне чувствующий и крепко держащий природу и вещи, такому мастеру фотоматериал тоже натура. Да, натура самая настоящая.
• Помогает нам фото? Да! Спасибо ему? Да, спасибо. Оно ускоряет, а подчас выручает нас при зарисовках, при первичном сборе материалов. Блокнот блокнотом, а фото, благодаря своей моментальности, точности, наглядности, чёткости и доступности применения, является по меньшей мере громадным ускорителем в процессе первичной сборки материалов. В самом деле, — художник, получив тему для журнала, обложки, книги, плаката, бежит прежде всего в фототеку.
• Надо уметь использовать фотоматериал.
• Прошлое изобразительного искусства — это технические способы копирования природы.
• Искусство — не копия реального, а плод человеческого творчества.
• Произведение искусства имеет задачей не воспроизводить мир, а выражать стремление человека.
Эти разбросанные по альбомам осколки мыслей помогут, как мне кажется, искусствоведам глубже раскрыть творческие замыслы талантливого художника, который безвременно погиб в 1937 году.
Воспроизведено по:
Искусство. 1968, №1. C. 36–42
 Костерин Алексей Евграфович
Костерин Алексей Евграфович (17.03.1896, село Нижняя Бахметьевка Саратовской губернии – 10.11.1968, Москва). Родился в семье рабочего-металлиста. Отец, мать и двое братьев — старые большевики: Василий в РСДРП с 1903 (председатель Совета и руководитель партячейки Петровского уезда Саратовской губернии в 1917; арестован и расстрелян в 1936), Михаил — с 1909 (исключён в 1936), отец — с 1905, мать — с 1917.
В 1915 окончил реальное училище в г. Петровске, имея полгода тюрьмы и ссылку под надзор полиции за участие в революционном кружке.
В 1916 в Москве, учится в Народном университете Шанявского. Курса не кончил: в январе 1917 арестован по обвинению в принадлежности к партии большевиков, освобождён из заключения после Февральской революции.
В 1917–1922 — на Северном Кавказе и в Закавказье. С января 1918 — член РКП(б), активный участник Гражданской войны (Баку, Грозный, Тифлис, Северный Иран, Владикавказ). В начале 1920 — военный комиссар Чечни, затем секретарь Кабардинского обкома РКП(б). В 1922 году исключён из партии за бытовое разложение (пьянство).
С 1922 в Москве. Учёба в институте художественного слова (он же Высший литературно-художественный, он же Брюсовский, он же Литературный). Курса не кончил. Вместе с Артёмом Весёлым, Михаилом Голодным и Михаилом Светловым создаёт литобъединение «Молодая гвардия». Член Всесоюзного общества пролетарских писателей (ВОПП) «Кузница», ЛиТО «Октябрь» (до 1925), один из основателей Всесоюзного объединения рабоче-крестьянских писателей «Перевал».
С 1922 по 1925 год мы (с Артёмом Весёлым. — В.М.) вместе кочевали из одного литературного кружка в другой: «Молодая Гвардия», «Октябрь», «Кузница». Москва тех лет была полна этаких мелких литературных ячеек, создававшихся порой просто вокруг какого-либо крупного имени. Кроме перечисленных кружков, были ещё такие: «Союз крестьянских писателей», «Литкружок имени Неверова», «Леф», «Круг», «Союз писателей», «Союз поэтов», «Рабочая весна» и другие. Все они сочиняли и публиковали декларации, программы и клятвенные заверения обязательно дать “эпохальные” произведения. Мы посещали эту густую литературную поросль, слушали выступления и дискуссии. От всего этого словотолчения и слововерчения в голове стлался туман. ‹...›
Мы создали из молодых писателей и поэтов ещё одну “свободно-творческую группу” — «Перевал».
‹...› Мы хотели учиться и писать, но не декларации. Мы хотели отображать жизнь, а не участвовать в многочисленных дискуссиях. К нам потянулись такие поэты и писатели, как Багрицкий, Пришвин, Караваева и другие.
Однако примерно через год я обратил внимание Артёма на странный состав наших литсобраний. Наше довольно большое помещение заполняли какие-то завитые и накрашенные девицы в кисейных кофточках и юбочках выше колен, молодые люди, тоже подвитые и надушенные и чуть ли не с моноклями. ‹...›
От всей этой мути я ушёл в газету «На вахте», орган ЦК водников ‹...›
В институте мы бывали редко. Неудивительно. Пять лет революционный шторм бросал нас из конца в конец страны ‹...› Мы принесли с фронтов не только жадность к жизни, стихийный порыв к новому, но и полную уверенность, что вершины социалистической культуры мы возьмём также штурмом, и с тем же боевым кличем — „даёшь!” Сотрудник московских газет «На вахте», «Гудок», «Труд», «Известия».
С 1935 — член Союза писателей СССР. Из Литературной энциклопедии 1929–1939 (т. 5. – 1931):
Рассказы К. преимущественно посвящены гражданской войне, отличаются напряжённостью и красочностью, но это — пафос не борьбы, сознательно направляемой пролетарским авангардом, а всего лишь героизм необыкновенных одиночек. Приподнятый тон повествования в произведениях Костерина сплошь и рядом срывается в ходульность и риторику.
Библиография: Алая нефть, Рассказ, М., 1923; На изломе дней, Рассказы, Гиз, М., 1924; Восемнадцатый годочек, Повесть, М., 1924 (с дополн. Ю. Либединского: Алексей Костерин. Критико-биографическая заметка); На страже (Кавказские рассказы), Ростов н/Д., 1925; Под полярной звездой и др. рассказы, М., 1926; Осколки дней, Повести, М., 1926; Морское сердце, Собр. рассказов, М., 1927, и др. Осенью 1936 заключил с государственным трестом по дорожному и промышленному строительству в районе Верхней Колымы «Дальстрой» договор на два года и командирован в Магадан заместителем редактора газеты «Советская Колыма»; 25 мая 1937 назначен редактором “производственной многотиражки” «Сигнал дороги» ОЛП УДС.
После ареста директора «Дальстроя» Эдуарда Берзина (1894–1938) и непосредственного начальника Костерина члена партии с 1912 года, ответственного редактора «Советской Колымы», заведующего издательством «Колыма» и секретаря парткомиссии Дальстроя Роберта Апина (1892–1938) по сфабрикованному делу о „Колымской антисоветской шпионской, террористическо-повстанческой, вредительской организации”, а также по делу о так называемой Колымской подпольной антисоветской правотроцкистской террористической организации решением партийной комиссии при Политуправлении «Дальстроя» от 18 апреля 1938 с формулировкой „за сокрытие порочащих родственников сведений” вторично исключён из партии и снят с работы.
6 мая 1938 арестован. Находился под следствием 26 месяцев, после чего Особым совещанием при НКВД СССР признан “социально опасным элементом” (т.е. не политическим, а уголовным преступником) и приговорён к пяти годам исправительно-трудовых лагерей. Отбывал срок в Севвостлаге, после чего там же работал по вольному найму.
В 1948–1953 проживал в станице Усть-Медведицкой Ростовской обл., затем в Саратове, где работал воспитателем в детдоме и рабочим сцены. Гайра Артёмовна Весёлая свидетельствует:
Костерин рассказал, как Серафимович, с которым он был дружен, спас его, только что отбывшего десять лет в колымских лагерях, от повторного ареста в 1948 году.
— Я гостил у старика на Дону в городке Серафимович. Раз поздно ночью он разбудил меня, положил на стол деньги и сказал только одну фразу: „Беги на Волгу и заляг на дно”. В рыбацкой артели я проработал до смерти Сталина. В 1953 г. вернулся в Москву, зарабатывал на жизнь киоскёром и книгоношей. В марте 1955 г. реабилитирован Верховным судом СССР, в 1956 восстановлен в Союзе писателей. В печати появляются его воспоминания об Артёме Весёлом (Слово должно сверкать // Новый мир. 1963. № 11) и Велимире Хлебникове (Русские дервиши // Москва. 1966. № 9), выходит цензурованный КГБ сборник рассказов о Колыме и повесть о Берзине «Эд-Бер» (
Костерин А. По таежным тропам. М.: Сов. пис., 1964. 272 с.)
Восстановление писателя в партии длилось три года (1956–1959). Проволочка объясняется письмом Н. Хрущёву (осень 1957) с критикой тогдашнего партийного руководства Чечено-Ингушетии в отношении возвращавшихся ссыльно-поселенцев. Автор пытался обратить внимание первого лица государства и на взрывоопасность обстановки в Пригородном районе, которая в дальнейшем привела к первой гражданской войне на территории Российской Федерации.
Письмо Костерина получило громадную известность среди местного населения.
Летом 1958 „за антипартийное поведение, выразившееся в изготовлении и распространении клеветнического письма, которое нанесло политический ущерб восстановлению Чечено-Ингушской АССР” Краснопресненский РК КПСС исключает его из кандидатов партии. Вскоре это решение отменяют — возможно потому, что волнения в Грозном августа 1958 подтвердили правоту Костерина. Тем не менее, в 1959 у него производят обыск, вызывают на допросы. Обвинения в злонамеренном распространении письма по чечено-ингушскому вопросу Костерин парировал тем, что не мог предвидеть такой востребованности своего послания Хрущёву на Кавказе. Однако, делая все необходимые реверансы и даже называя письмо „прескверным”, замечает:
Объясняется просто: я сам не ожидал, что коммунисты-чечены воспримут это письмо, как песню, как произведение искусства. Не ожидал, что весь народ подхватит это письмо. Но из факта стремительного распространения письма также надо сделать объективные выводы. ‹...› Если бы вовремя прислушались к сигналам ряда коммунистов, если бы письмо не преследовалось органами КГБ, оно осталось бы для истории малозначительным фактом, а не заучивалось наизусть. В середине 1960-х в поле зрения писателя попадают злоупотребления в отношении не только репрессированных горцев, но и немцев Поволжья, а также крымских татар. Тогда же вокруг Костерина и его друга, старого большевика С. Писарева, сплотилась молодёжь (В. Павлинчук, Г. Алтунян, И. Яхимович), противопоставляющая реалиям СССР “ленинские заветы”.
В 1966 к этому кружку присоединяется генерал Пётр Григоренко.
Костерин подписал письмо девяти старых большевиков ХХIII съезду КПСС с просьбой вернуться к революционным идеалам и целям (март 1966). Настойчиво, но безуспешно обращался в партком Московского отделения Союза писателей и в Правление Союза писателей с предложением увековечить память погибших в годы культа личности собратьев по перу мемориальной доской (январь–апрель 1967).
В мае 1967 распространяет в самиздате статью «О малых и забытых» (о народах, репрессированных при Сталине) и становится виднейшим участником движения за реабилитацию и возвращение крымских татар на родину.
В июле 1967 направил в редакцию журнала «Дон» и в Союз писателей РСФСР открытое письмо «Писатель Костерин А.Е. — писателю Шолохову М.А.», после чего партком Московского отделения Союза писателей возбудил против Костерина персональное дело с формулировкой „разделяет клеветнические измышления о цензурных ограничениях в литературе”.
‹...› Искусство долговечно только в силу той правды, которую оно несёт народам. А ваши произведения лживы. Русский рабочий класс и крестьянство, интеллигенция и национальности, входившие в Российскую империю, хорошо знают, что такое казачье сословие, как оно держало монархию и как питало контр-революцию. В Баку и Саратовской губернии я узнал, как лихо работают казачья нагайка, шашка и пуля при расправе с безоружными рабочими и крестьянами.
“Казачья Вандея” страшной и грозной тенью висела над молодой Советской республикой все три года гражданской войны. А вы в вашем «Тихом Доне» пытаетесь реабилитировать казачье сословие и описываете его, как обычное крестьянство. В этом — большая принципиально — важная ложь.
Ещё бóльшая ложь в вашей «Поднятой целине». Коллективизация по-сталински, грубейшим образом нарушив ленинский кооперативный план, шла совершенно не так, совсем по-иному воспринималась и переживалась всем народом и казачеством в том числе. И ваш герой Давыдов не бандитами убит, а погиб в тюрьме или лагере. Я это знаю потому, что своими глазами видел, что творилось в деревне и в казачьих станицах, а потом свои наблюдения проверил на Колыме.
Вот так, поразмыслив над тем, какой страдный путь прошла советская литература, сколько жертв принесла на алтарь бюрократизма, я, солдат революции призыва 1914 года, решил: я не должен, не имею права молчать, потому что „не тиран нам ненавистен, а ненавистна наша немота”. До сих пор меня волнуют слова Миши Светлова, который, встретив меня после реабилитации, обнял и сказал: „Алёша, не говори, не рассказывай: я знаю всё… и поверь, мне было хуже — я чувствовал себя подлецом”. ‹...›
А теперь перейду к основной теме своего письма — о цензуре над нашей литературой. Правильно Солженицын пишет в своём письме, что многие чувствуют беспощадность прокрустова ложа цензуры. И у меня есть произведения, которые возвращали мне из редакций нескольких журналов: „Неплохо, но — увы! — не пройдёт”.
И у меня есть книжка, которую дважды посылали “на консультацию” (как тяжело больного к профессору-специалисту)… в Комитет госбезопасности! Потеряв в результате “консультации” целые главы и многие абзацы и даже реплики, книга стала рахитичной, бесцветной, просто жалкой „безноженькой” (по Вертинскому). И я непрерывно чувствую и чувствовал за всё время после реабилитации, как “некто в сером” держит мою руку с пером, давит на мозг и сердце, толкает на асфальтированный путь к славе, к признанию. Знаю по себе и по ряду других писателей, как из произведений вырезают правду дня и правду истории, заставляют молчать о явлениях, в корне искажающих марксистско-ленинское учение.
Вот вы, например, — один из тех, кто — по неразумению или намеренно — искажает Ленина.
Вы взяли выдержку из письма Ленина, в котором он разъясняет, почему в 1921 году, когда ещё не окончилась гражданская война, а страну потрясали голод, разруха, бандитизм, — почему нельзя было допустить свободы печати „от монархистов до анархистов”. Взяв эту цитату, вы “забыли” некоторые “мелочи”. Например, то, что сейчас не 1921 год, когда анархисты и монархисты вели кровавую борьбу с молодой Советской властью. Сейчас даже вопрос о свободе печати не должен был бы стоять. Речь идёт о том, кто и по какому праву лишил советских граждан (не монархистов и анархистов, от которых и следа не осталось, а честных советских трудящихся!) их конституционного права.
Вместо того чтобы ответить на этот очень простой и ясный вопрос, вы уводите разговор в сторону. Козырнув цитатой Ленина, вы демагогически спекулируете на войне во Вьетнаме, на ЦРУ, американских сенаторах, российских анархистах и монархистах, и требуете от писателей отказаться от своего конституционного права.
Вы выступили против свободы печати, против свободы творчества и, таким образом, скатились в лагерь мракобесов, в лагерь душителей свободной мысли, без чего не может быть прогресса, т.е. дальнейшего пути к коммунизму.
‹...› указания Ленина в 20-х годах были проведены в жизнь. Мы имели «Московское товарищество писателей», свободное от назначенных редакторов и цензуры (за исключением военной); мы имели право даже на “авторское издание”. В журналах и газетах шли дискуссии не только на литературные темы, но и по вопросам большой принципиальной важности. Для журналов и газет также не было цензуры, кроме военной.
Так было, учтите, у нас в классовом обществе, в условиях острой борьбы с недобитками буржуазии, с идеологами эсерства (особенно в кооперации), с кулачеством, с церковниками. И это было правильно, необходимо, ибо те теории, науки, учения, которые не знают дискуссий, идут в могилу.
‹...› В своей безмерно раздутой себявлюбленности вы не считаете для себя обязательным говорить с делегатами Съезда уважительно и серьёзно. Вы полагаете, что с ними достаточно играть роль деда Щукаря, которому дозволительны и пошлое балагурство, и заезжательство, и пренебрежение к товарищам по литературному цеху, которые возмущаются нестерпимыми цензурными тисками.
Трудно без возмущения читать вот эти слова, достойные черносотенца: „Мир охвачен тревогой и беспокойством. А кое-кому хочется “свободы печати” для всех — “от монархистов до анархистов”. Что это — святая наивность или откровенная наглость? Эти алчущие “свободы” пытаются вести свою тлетворную работу среди наших молодых. Нет, господа, ничего не выйдет у вас!”
Так мы, требующие восстановления ленинских указаний о печати, правды — даже самой жестокой и беспощадной — в искусстве и в истории, борьбы с бюрократией по-ленински, мы для вас — „господа”, „тлетворно” влияющие на молодых?! Это — не единственная гнусность в вашем балагурстве на Съезде. Что ж, каждое время имеет своих Булгариных! В 1967–1968 принял участие в петиционной кампании вокруг “процесса четырёх”, подписал «Письмо Консультативному совещанию коммунистических и рабочих партий в Будапеште» (13.02.1968) с просьбой предоставить ему и Григоренко как представителям “коммунистической оппозиции” в СССР возможность выступить на его заседании; подписал письмо к Президиуму Консультативного совещания коммунистических и рабочих партий в Будапеште о политических процессах в СССР и дискриминации малых наций (24.02.1968).
В конце февраля 1968 перенёс инфаркт, но правозащитную деятельность не прекратил: cовместно с Григоренко написал «Открытое письмо о ресталинизации» (март 1968), изложил свой взгляд на судьбу партии в «Раздумье на больничной койке» (март–май 1968).
Незадолго до ввода войск в Чехословакию совместно с Григоренко написал открытое письмо «К членам коммунистической партии Чехословакии», горячо поддержав Пражскую весну.
29 сентября 1968 в том же соавторстве написал обращение ко всем советским людям и к прогрессивной общественности мира в защиту участников “демонстрации семерых”. В октябре 1968 подписал «Обращение восьми» в Московский городской суд по поводу процесса над демонстрантами.
17 октября 1968 партком Московского отделения Союза писателей заочно рассмотрел персональное дело Костерина и исключил его из партии за то, что после вторжения советских войск в Чехословакию он потребовал исключить из партии Брежнева. 24 октября Костерин опротестовал в ЦК КПСС допущенные при его исключении нарушения Устава КПСС и сообщил о выходе из партии, которая стала „жандармом Европы”, приложив свой партбилет с запиской: „Это не та партия, в которую я вступал и за идеи которой боролся в революцию и гражданскую войну”.
30 октября 1968 исключён из Союза писателей СССР, а 10 ноября скончался.
Внук писателя, правозащитник А.О. Смирнов-Костерин свидетельствует:
После вторжения советских танков в Чехословакию в 1968 г. сердце деда не выдержало. Он отослал свой партбилет в ЦК с осуждающим письмом. Вызвали его в райком партии, я пошёл с ним. А там тётки ходят по коридорам, низкие, кривоногие, с усами, в пиджаках и с беломоринами в зубах.
Они вызвали деда в кабинет. Я услышал его странный крик...
Мы еле добрели домой, и я не знал, как ему помочь. Он слёг и через два дня у него не выдержало сердце. Я его держал, пытался приподнять, думая, что так ему будет легче, но дед вдруг весь покраснел, захрипел и сделал долгий, облегчённый выдох…
Пётр Григорьевич приехал немедленно. Вошёл молча, не поздоровавшись, уронил палку и сразу прошёл к дедовской кровати. Почти упав на деда, он обнял его и закричал:
— Алёшка!!! Алёшка… Что же ты наделал?… Как же я без тебя?!..
Странно, он же войну прошёл, сколько раз видел смерть, почему же он так? — думал я. Похороны Костерина стали событием чрезвычайным. Из воспоминаний А.А. Амальрика:
В мрачном зале крематория ‹...› собрались не только московские диссиденты и родственники Костерина, но и писатели, крымские татары, чечены, ингуши, просто сочувствующие, а также иностранные корреспонденты и гебисты — из расчёта десять на одного корреспондента. Произошло некоторое замешательство: наши девушки стали раздавать чёрно-красные ленточки на булавках, обходя стукачей, так что овцы были явно отделены от козлищ. Все теперь смотрели не в лицо друг другу, а на грудь — приколота ли траурная ленточка. ‹...› На трибуну поднялся Пётр Григорьевич. „Товарищи!” — сказал он, и в этот момент микрофон отключили, но у Григоренко был достаточно громкий, генеральский голос. Он начал с тёплых личных слов о Костерине, как много Костерин для него значил, как он из бунтаря превратил его в борца ‹...› Никто ничего подобного не слышал несколько десятилетий: в Москве совершенно открыто при стечении нескольких сот человек была произнесена политическая речь. Гебисты были в растерянности: броситься ли им, опрокидывая гроб, на возвышение и стащить Петра Григорьевича — или же слушать до конца. „Ваше время истекло!” — дважды прерывал его чей-то голос, на этот раз через микрофон, но Григоренко продолжал говорить и закончил: „Не спи, Алёшка! Воюй, Алёшка Костерин! Мы, твои друзья, не отстанем от тебя! Свобода будет! Демократия будет! Свидетельство А.Ю. Даниэля:
Помню толпу, заполнившую небольшой церемониальный зал. Помню крымского татарина, взошедшего на трибуну по мусульманскому обычаю, с покрытой головой, и произнесшего слова благодарности покойному от имени своего народа (за это выступление Муаррем Джелял-оглы Мартынов был приговорён к 2-м годам лишения свободы условно. — В.М.). Благодарность диссиденту от народа. Это звучало необычно. Помню Григоренко, пообещавшего Алексею Евграфовичу, что его прах в Крыму будет... И помню головокружительное чувство оттого, что впервые публично произносятся слова, которые можно услышать только в четырёх стенах или прочесть в самиздатской машинописи. «Хроника текущих событий» (выпуск пятый, 31 декабря 1968 г.) сообщила:
На похоронах присутствовало примерно 300–400 человек. Самиздатовская подборка включает предисловие от составителя; описание похорон «Ещё одна издёвка над чувствами святыми», написанное П.Г. Григоренко; некролог, написанный группой друзей-единомышленников Костерина и прочитанный в морге Боткинской больницы Анатолием Якобсоном; выступления в морге: Муаррема Мартынова, народного поэта крымско-татарского народа; С.П. Писарева, члена КПСС с 1920 г.; Аблямита Борсеитова, учителя; Джемилева, инженера; выступления в крематории: Рефика Музафарова, профессора, доктора филологических наук; П.Г. Григоренко, кандидата военных наук; выступления на поминках: Петра Якира, историка; Халида Ошаева, чеченского писателя; Андрея Григоренко, техника; Зампиры Асановой, врача; Леонида Петровского, историка; и неизвестного человека, которому составители дали псевдоним “Христианин”. Из речи П.Г. Григоренко на похоронах А.Е. Костерина в московском крематории 14 ноября 1968 года:
‹...› На моих глазах совершались героические воинские подвиги. Совершали их многие. На смерть во имя победы над врагом на поле боя шли массы. Но даже многие из тех, кто были настоящими героями в бою, отступают, когда надо проявить мужество гражданское. Чтобы совершить подвиг гражданственности, надо очень любить людей, ненавидеть зло и беззаконие и верить, верить беззаветно в победу правого дела. Алексею всё это было присуще. ‹...›
Я вижу здесь представителей многих наций. Их было бы куда больше, если бы люди вовремя узнали о его кончине. Но, к сожалению, наша печать не пожелала оповестить об этом, а телеграф позаботился, чтобы некоторые телеграммы шли не очень быстро. ‹...›
Дорогие товарищи! И моя душа стонет от горя. И я плачу вместе с вами. Особенно соболезную я вам, представители многострадального крымско-татарского народа. Многие из вашей нации знали Алексея Евграфовича при его жизни, дружили с ним. Он был всегда с вами и среди вас. Он и останется с вами. Думаю, что Нурфет, звонивший вчера из Ферганы, выразил общее мнение вашего народа, когда заявил: “Мы не признаём его смерти. Он будет всегда жить среди нас”. Вы знаете, что Алексей Евграфович питал чувства большой любви к вашему народу. Недаром он и прах свой завещал крымским татарам. И мы — Вера Ивановна и все его друзья — выполним этот завет и перевезем урну с его прахом в Крым, как только будет восстановлена крымско-татарская автономия на земле ваших предков. Верьте, Костерин будет продолжать бороться за это. Мы надеемся также, что среди советских писателей найдутся люди, способные подхватить костеринское знамя и повести борьбу за равноправие малых народов не только в США, Латинской Америке и Африке, но и у себя дома, в своей стране.
Я очень недолго знаю Алексея. Меньше трёх лет. Но у меня прошла с ним рядом целая жизнь. Самый близкий мне человек ещё при жизни Костерина сказал: „Тебя сотворил Костерин”. И я не спорил. Да, сотворил — превратил бунтаря в борца. И я ему буду благодарен за это до конца дней своих. ‹...›
Сегодня на примере жизни, смерти и похорон Костерина мы воочию убеждаемся в правоте ленинской характеристики “нравственного лица” чиновничье-бюрократической машины. В условиях господства этой машины любой из тех, кто сидел на партийном собрании, разбиравшем “персональное дело Костерина”, молча слушал клевету на своего товарища по партии, зная, что тот стоит на краю могилы, и потом голосовал за его исключение, понимая, что это не только морально-психический удар по тяжело больному человеку, но и санкция на дальнейшую его травлю, может сказать — „Ну, что я мог поделать один?” — и, освободив, таким образом, совесть, спать спокойно. До этих людей, воспитанных не в духе личной ответственности за все, что происходит в мире, а в бездушном подчинении “указаниям”, так и не дойдет, что они участвовали в убийстве человека, т.к. не только травмировали больного, но хотели лишить его того главного, что делает человека человеком — права мыслить.
А те, кто организовали исключение из партии, а затем как воры, в глубокой тайне, пытались лишить Костерина писательского звания, а вернее, тех преимуществ, кои вытекают из права быть записанным писателем в бюрократических кондуитах, — они что скажут? Они получили “указания” и с видом всемогущим взялись за “разжалование”, даже не понимая, что имя писателя приобретается не путём подачи заявления о приёме в ССП. Они забыли, а, может, и не знают, что ни Пушкин, ни Толстой в этой организации не состояли. Они настолько веруют в силу своих бюрократических установлений, что пытались лишить писательского звания даже такого величайшего поэта нашей страны, как Пастернак. Они не понимают и того, что Солженицын и без их Союза останется великим писателем, а его произведения переживут века, в то время как их бюрократическое творение без писателей, подобных Пастернаку и Солженицыну, — никому не нужная пустышка. Им и невдомёк, что каждому действительному писателю приятнее разделить судьбу Пастернака и Костерина, чем заседать рядом с воронковыми и ильиными. Им ещё многое непонятно — этим винтикам чиновничье-бюрократической машины “во писательстве”. Ни у кого из них даже угрызений совести не появится. Как же! Они ведь “долг свой выполнили” — крутили колёса не ими заведённой машины. А что погиб человек в результате этого — так при чём тут они?!
Никто не виновен. У всех совесть чиста. И у директора столовой, который накануне дня похорон принял наш заказ на поминки по усопшему, а за 2 часа до похорон, после того как его навестили двое с синенькими книжечками, категорически отказал и вернул полученный накануне задаток; и у коменданта крематория, который под руководством таинственной личности в цивильном сократил положенные нам полчаса (два оплаченных срока) до 18 минут; и у тех многочисленных типов в гражданском и чинов милиции, которые непрерывно маячили у нас на глазах, омрачая и без того тяжёлые минуты нашего горестного прощания, — у всех у них совесть спокойная. Все они выполняли “указания”, хотя никто из них даже не знает толком, от кого они исходят. Только у одного человека — работника морга, который, тоже руководствуясь указаниями таинственной личности, выдал нам тело нашего друга не за час, как было условлено, а за 20 минут до отъезда из морга, — только у него, после того, как он прослушал выступления нескольких друзей писателя-большевика, шевельнулось, видимо, что-то человеческое, и он с просительно-извиняющимся выражением на лице сказал нам вслед: „Поймите, пожалуйста, что я же не по своей воле сделал это”.
Вот какова эта машина, машина, вращаемая нашими руками и головами, беспощадно нас давящая, уничтожающая лучших людей нашего общества, делающая всех невиновными, неответственными за совершаемые ей преступления, освобождающая своих слуг от совести. Страшная, жестокая, бездушная машина.
Именно против этой машины и боролся Костерин всю свою жизнь. Именно от неё он защищал людей. И люди шли к нему, становились с ним рядом, заслоняли его собой. В его кругу не возникал ни национальный вопрос, ни проблема отцов и детей. Украинцы, немцы, чехи, турки, чеченцы, крымские татары и многие другие национальности (всех и не перечислить) находили тёплый приём в его доме; среди всех них, а особенно среди крымских татар, чеченцев и ингушей, у него было много близких друзей. То же и с возрастами. Наряду с людьми его поколения, с ним дружили и люди среднего возраста, и молодежь — такие, как талантливый физик-теоретик, сведённый в могилу той же чиновничье-бюрократической машиной, 28-летний Валерий Павлинчук, как ныне отбывающий срок в лагерях строгого режима организатор демонстрации на площади Пушкина в защиту Галанскова, Гинзбурга и других — Володя Буковский, и многие ещё более молодые, которых я, по понятным причинам, не назову.
В надгробной речи нельзя рассказать всё о таком человеке, как покойный, особенно, когда горло сжимается горем и душит злоба против убийц этого замечательного человека — коммуниста, демократа-интернационалиста, несгибаемого бойца за человеческое достоинство, за права человека, когда слуги убийц пытаются прервать тебя, не дать тебе высказать всё что просится наружу из самой глубины сердца.
Прощаясь с покойником, обычно говорят: „Спи спокойно, дорогой товарищ!”. Я этого не скажу. Во-первых, потому что он меня не послушает. Он всё равно будет воевать. Во-вторых, мне без тебя, Алёша, никак нельзя Ты во мне сидишь. И оставайся там. Без тебя и мне не жить. Поэтому не спи, Алёшка! Воюй, Алёшка Костерин, костери всякую мерзопакость, которая хочет вечно крутить ту проклятую машину, с которой ты боролся всю жизнь! Мы, твои друзья, не отстанем от тебя.
Свобода будет! Демократия будет! Твой прах в Крыму будет! Могилы Алексея Костерина в Крыму нет. Есть улица его имени в Симферополе.


 прель, 1921 год. Город Решт — центр Гилянской области Иранской республики.
прель, 1921 год. Город Решт — центр Гилянской области Иранской республики. Я со значительной группой кавказских партизан присоединился к нему. Своей штабной квартирой я избрал деревню Шахсевар. Сюда же мы перебросили и типографию, редакции газет, агитаторов-пропагандистов…
Я со значительной группой кавказских партизан присоединился к нему. Своей штабной квартирой я избрал деревню Шахсевар. Сюда же мы перебросили и типографию, редакции газет, агитаторов-пропагандистов… Здесь, во Владикавказе, среди чеченцев и осетин Доброковский нашёл поклонников поэзии Маяковского. Чеченец Заурбек Шерипов, брат героя чеченского народа Асланбека, был членом чеченского областного исполкома; осетин Дзахо Гатуев — журналист, работал в газете при Кирове — стал наиболее активным участником журнала «Горская мысль». В лице этих двух горцев Доброковский нашёл благодарных слушателей для своих высказываний о футуризме.
Здесь, во Владикавказе, среди чеченцев и осетин Доброковский нашёл поклонников поэзии Маяковского. Чеченец Заурбек Шерипов, брат героя чеченского народа Асланбека, был членом чеченского областного исполкома; осетин Дзахо Гатуев — журналист, работал в газете при Кирове — стал наиболее активным участником журнала «Горская мысль». В лице этих двух горцев Доброковский нашёл благодарных слушателей для своих высказываний о футуризме.
 Доброковский стоял перед плакатом, где был изображён худой, измождённый старик с воздетыми руками и краткая, исступленно кричащая надпись: „Помоги!”.
Доброковский стоял перед плакатом, где был изображён худой, измождённый старик с воздетыми руками и краткая, исступленно кричащая надпись: „Помоги!”. С альбомом и блокнотом в кармане он “обследовал” буквально всю Москву и Подмосковье. На заводе «Серп и молот» его считали “своим художником”. Поэт Яков Шведов, вышедший из цехов этого завода, оформление своих стихов получал из-под пера и рейсфедера Доброковского. Шведов и до сих пор с благодарностью вспоминает художника — с его иллюстрациями стихи поэта получали какую-то особую, “стальную” звучность.
С альбомом и блокнотом в кармане он “обследовал” буквально всю Москву и Подмосковье. На заводе «Серп и молот» его считали “своим художником”. Поэт Яков Шведов, вышедший из цехов этого завода, оформление своих стихов получал из-под пера и рейсфедера Доброковского. Шведов и до сих пор с благодарностью вспоминает художника — с его иллюстрациями стихи поэта получали какую-то особую, “стальную” звучность. Костерин Алексей Евграфович (17.03.1896, село Нижняя Бахметьевка Саратовской губернии – 10.11.1968, Москва). Родился в семье рабочего-металлиста. Отец, мать и двое братьев — старые большевики: Василий в РСДРП с 1903 (председатель Совета и руководитель партячейки Петровского уезда Саратовской губернии в 1917; арестован и расстрелян в 1936), Михаил — с 1909 (исключён в 1936), отец — с 1905, мать — с 1917.
Костерин Алексей Евграфович (17.03.1896, село Нижняя Бахметьевка Саратовской губернии – 10.11.1968, Москва). Родился в семье рабочего-металлиста. Отец, мать и двое братьев — старые большевики: Василий в РСДРП с 1903 (председатель Совета и руководитель партячейки Петровского уезда Саратовской губернии в 1917; арестован и расстрелян в 1936), Михаил — с 1909 (исключён в 1936), отец — с 1905, мать — с 1917.