Сёстры Каган о Маяковском

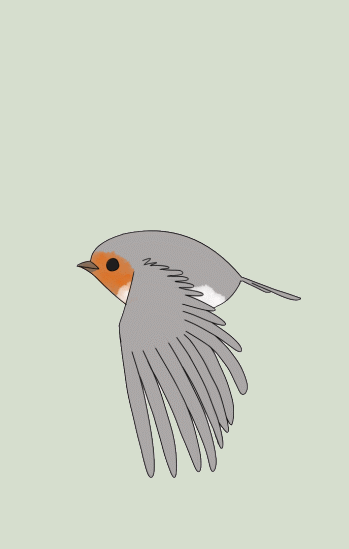

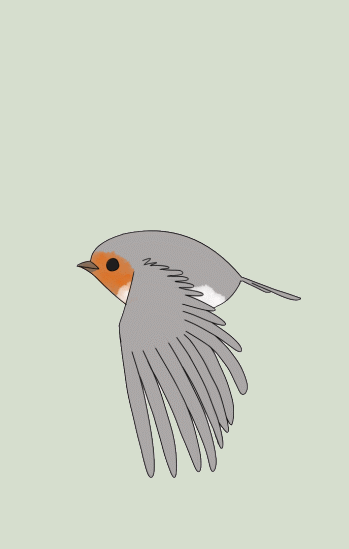
 познакомилась с Маяковским, если не ошибаюсь, осенью 1913 года, в семействе Хвас.1
познакомилась с Маяковским, если не ошибаюсь, осенью 1913 года, в семействе Хвас.1Старшая девочка, Ида, дружила с Лилей, а я была мала и для Али, младшей, — ей было обидно играть с маленькой. Из развлечений я помню только, как Ида, Лиля и Аля, все сообща, запирали меня в уборную, и я там кричала истошным голосом, оттого что ничего на свете я так не боялась, как запертой снаружи двери.
И сразу после этих детских лет всплывает тот вечер первой встречи с Маяковским осенью 13-го года. Мне было уже шестнадцать лет, я кончила гимназию, семь классов, и поступила в восьмой, так называемый педагогический. Лиля, после кратковременного увлечения скульптурой, вышла замуж,3![]()
![]()
 В хвасовской гостиной — там где стоял рояль и пальмы — было много чужих людей. Все шумели, говорили, Ида сидела у рояля, играла, напевала. Почему-то запомнился художник Осмеркин,5
В хвасовской гостиной — там где стоял рояль и пальмы — было много чужих людей. Все шумели, говорили, Ида сидела у рояля, играла, напевала. Почему-то запомнился художник Осмеркин,5![]()
![]()
Ужинали всё в той же мастерской за длинным столом, но родителей с нами не было, не знаю, где они скрывались, может быть — спали. Сидели, пили чай ... Эти, двадцатилетние, были тогда в разгаре боя за такое или эдакое искусство, я же ничего не понимала, сидела девчонка девчонкой, слушала и теребила бусы на шее ... нитка разорвалась, бусы посыпались, покатились во все стороны. Я под стол, собирать, а Маяковский за мной, помогать. На всю долгую жизнь запомнилась полутьма, портняжий сор, булавки, нитки, скользкие бусы и рука Маяковского, легшая на мою руку.
Маяковский пошёл меня провожать на далёкую Маросейку. На его площади стояли лихачи. Мы сели на лихача.
 Маяковский звонил мне по телефону, но я не хотела его видеть, и встретилась с ним случайно, через какой-то срок, может быть, недолгий, а может быть и год целый. Он шёл по Кузнецкому мосту, на нём был цилиндр, чёрное пальто, и он помахивал тростью. Повёл бровями, улыбнулся и спросил, может ли прийти в гости. Начиная с этой встречи, воспоминания встают кадрами, налезают друг на друга, и я не знаю, ни какой срок их отделяет, ни в каком порядке они располагаются.
Маяковский звонил мне по телефону, но я не хотела его видеть, и встретилась с ним случайно, через какой-то срок, может быть, недолгий, а может быть и год целый. Он шёл по Кузнецкому мосту, на нём был цилиндр, чёрное пальто, и он помахивал тростью. Повёл бровями, улыбнулся и спросил, может ли прийти в гости. Начиная с этой встречи, воспоминания встают кадрами, налезают друг на друга, и я не знаю, ни какой срок их отделяет, ни в каком порядке они располагаются.В это время Маяковский бывал у меня часто, может быть ежедневно. Вижу его у меня в комнате, он сидит, размалёвывает свои лубки военных дней (очевидно, это было в августе-октябре 14-го года):
Возможно, что именно эти лубки были сделаны у меня, уж очень крепко засели в голове подписи к ним. Володя малюет, а я рядом что-нибудь зубрю, случалось, правлю ему орфографические ошибки.
Вижу себя в гостиной, у рояля (я тогда училась в музыкальной школе Гнесиных, у Ольги Фабиановны),9![]()
А ещё помню его за ужином: за столом папа, мама, Володя и я. Володя вежливо молчит, изредка обращаясь к моей матери с фразами вроде: „Простите, Елена Юльевна, я у вас все котлеты сжевал ...”, категорически избегая вступать в разговоры с моим отцом. Под конец вечера, когда родители шли спать, мы с Володей переезжали в отцовский кабинет, с большим письменным столом, с ковровым диваном и креслами на персидском ковре, книжным шкафом ... Но мать не спала, ждала, когда же Володя, наконец, уйдёт, и по несколько раз, уже в халате, приходила его выгонять: „Владимир Владимирович, вам пора уходить!” Но Володя, нисколько не обижаясь, упирался и не уходил. Наконец, мы в передней, Володя влезает в пальто и тут же попутно вспоминает о существовании в доме швейцара, которого придётся будить, а у него даже гривенника на чай тому не найдётся. Здесь кадр такой: я даю Володе двугривенный для швейцара, а в Володиной душе разыгрывается борьба между так называемым принципом, согласно которому порядочный человек не берёт денег у женщины, и неприятным представлением о встрече с разбуженным швейцаром. Володя берёт серебряную монетку, потом кладёт её на подзеркальник, опять берёт, опять кладёт ... и наконец уходит навстречу презрительному гневу швейцара, но с незапятнанной честью.
А на следующий день всё начинается сызнова: появился Володя, с изысканной вежливостью здоровался с моей матерью и серьёзно говорил ей: „Вчера, только вы легли спать, Елена Юльевна, как я вернулся по верёвочной лестнице ...” И мама, несмотря на присущее ей чувство юмора, и на то, что мы жили на третьем этаже, с беспокойством смотрела на Маяковского: может быть, он действительно вернулся, не по верёвочной, а по обыкновенной лестнице.
Я же относилась к Маяковскому ласково и равнодушно, ни ему, ни себе не задавала никаких вопросов, присутствие его в доме считала вполне естественным, училась, читала книги и, случалось, задерживалась где-нибудь, несмотря на то, что он должен был прийти. Не застав меня, Володя оставлял свою визитную карточку, сантиметров пятнадцать шириной. На ней жёлтым по белому во всю ширину и высоту было напечатано: ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙ. Моя мать неизменно её ему возвращала и неизменно ему говорила: „Владимир Владимирович, вы забыли вашу вывеску”. Володя расшаркивался, ухмылялся и клал вывеску в карман.
Удивительно то, что меня ничто в Маяковском не удивляло, что мне всё казалось вполне естественным — и визитные карточки, и жёлтая кофта, и постоянное бормотанье. Когда мы бывали где-нибудь вместе, меня нисколько не смущало, что на него весь честной народ таращит глаза, я на этом как-то не останавливалась, и его странное иной раз поведение, необычную внешность и костюм воспринимала с полным равнодушием. Выступления, пресса, “футуризм”, шум и скандал до меня не доходили.
Таково было положение вещей, когда в Москву из Петрограда приехала Лиля. Здоровье отца опять ухудшилось. Как-то, мимоходом, она мне сказала: „К тебе тут какой-то Маяковский ходит ... Мама из-за него плачет”. И когда Володя позвонил мне по телефону, я тут же сказала ему: „Больше не приходите, мама плачет”.
К лету 15-го года отец уже больше не вставал. Мама была при нём безотлучно, и я не хотела, чтобы она плакала из-за меня.
Отца перевезли в Малаховку, на дачу, которую мы занимали с тёткой, маминой сестрой. Не знаю, не помню, каким образом Володя меня там нашёл. Просил встретиться, назначал мне свидания на малаховской станции. Я же то не приходила, то приводила с собой тётку и видела Володю только издали, стоящего раздвинув ноги, спиной к дачному вокзалу ... В который-то раз, всё-таки, почему-то пришла одна: он так же стоял, с папиросой в зубах и мутным от ярости взглядом. Должно быть, то было вечером, оттого что, отойдя от вокзала, Володя мне вспоминается как тень, бредущая рядом со мной по пустой дачной улице. Злобствуя на меня, Володя шёл на расстоянии, и в темноте, не обращаясь ко мне, скользил вдоль заборов его голос, стихами. К тому, что Володя постоянно пишет стихи, про себя или голосом, я давно привыкла и не обращала на то внимания. Я не обращала никакого внимания на то, что он поэт. И внезапно, в тот вечер, меня как будто разбудили, как будто зажгли яркий свет, меня озарило, и вдруг я услышала негромкие слова:
— Чьи это стихи?
— Ага! Нравится? ... То-то! — сказал Володя, торжествуя.
Мы пошли дальше, потом сели где-то, и на одинокой скамейке, под звёздным небом, Владимир Маяковский долго читал мне свои стихи. Должно быть, «Облако», и только «Облако».
Сознательная моя дружба с Маяковским началась буквально с этой строчки:
Жизнь размечена стихами, как верстовыми столбами. Но если бы тогда мне сказали, что я люблю поэзию, я бы не поняла и удивилась. А между тем поэзия была для меня таким великим искусством, что поражённая поэзией Маяковского, я немедленно привязалась к нему изо всех сил, я превратилась в страстную, ярую защитницу и пропагандистку его стихов. Всё тогда им написанное я знала наизусть и буквально лезла в драку, если кто-нибудь осмеливался критиковать поэзию Маяковского или его самого. За этим восторгом не крылись ни влюблённость, ни поэтические принципы или теории, это был вполне непосредственный восторг, который ощущаешь перед красотой пейзажа, морем, вечными снегами; это была неосознанная благодарность за то человеческое, что было сказано, выражено стихами и тем самым приносило облегчение всем окружающим.
В июле умер отец.13![]()
![]()
От этих времён у меня чудом сохранилось несколько Володиных писем из Петрограда. Коротенькие строчки воскрешают далёкий мир, дружбу с дядей Володей, которого я, очевидно, тогда посвящала во все мои переживания и романы ... „Рад, что ты поставила над твоим И. точку”. Если б не эта фраза, я бы об И. никогда и не вспомнила,16![]()
— Куда ты?
— Ухожу.
— Не смей!
— Не смей говорить „не смей!”
Когда я вышла на улицу, Володя уже сидел в санях, рядом с поджидавшим меня Владимиром Ивановичем. Бесцеремонный и наглый, Маяковский заявил, что проведёт вечер с нами, и тут же, с места, начал меня смешить и измываться над Владимиром Ивановичем. А тому, конечно, не под силу было отшутиться, кто же мог в этом деле состязаться с Маяковским? И мы, действительно, провели вечер втроём, ужинали, смотрели какую-то программу ... и смех и слёзы! Но каким Маяковский был трудным и тяжёлым человеком.
Жила я, конечно, у Лили, на улице Жуковского. Это было тогда, когда писались «Война и мир» и «Человек».19![]()
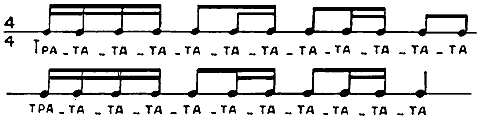
Вот она, война!
 В этот приезд, под новый год, у Лили устроили “футуристическую ёлку”:21
В этот приезд, под новый год, у Лили устроили “футуристическую ёлку”:21В этот новогодний вечер, за столом, мой сосед Вася Каменский предложил мне руку и сердце. Предложение это было если и не принято, то немедленно оглашено, и Васю Каменского уже все звали не Васей, а женихом.
Петроградские и московские воспоминания путаются в голове, путаются даты, времена года. Помню разговор с Володей о задуманном им романе, который должен был называться «Две сестры»25![]()
Хлебников, Маяковский, Каменский, Асеев, Кручёных ... Они нарушали в поэзии повторность буквы Б ... Брюсов, Бальмонт, Белый, Блок ... мой поэтический пейзаж дореволюционного периода. С каким наслаждением я слушала Асеева! Но над всеми, над всей поэзией того времени продолжал для меня царить Маяковский. И когда в феврале 18-го года в Политехническом музее были “выборы короля поэтов”,27![]()
![]()
Смутно всплывает ночное «Кафе поэтов», на него наезжает фотография из фильма по сценарию Маяковского «Не для денег родившийся», где на фоне «Кафе поэтов», с намалёванными на сводах большими цветами, стоят Маяковский в кепке, за ним Бурлюк с лорнетом, а некий Климов, с обручем вокруг головы, сидит у стола на скамейке, положив на неё ногу.29![]()
![]()
А вот мы у Лили, на Жуковской, в том же доме, но на другом этаже. В большой пустой комнате зеркало, на стенах балетные пачки: Лиля увлекается балетом ... Вечером приходит мой будущий муж, француз, в военной форме. На него из соседней комнаты, где играют в карты, выходят посмотреть Лиля, Володя ... Без комментариев. Володя отчуждённо здоровается. Он вежлив и молчалив, и никогда со мной об этом французском романе не заговаривает.
 В 18-м году сдала экзамены, получила свидетельство об окончании архитектурно-строительного отделения Московских женских строительных курсов, помеченное 27-м июня 1918 года. На той же Новой Басманной, где находились мои курсы, в бывшем Институте для благородных девиц, мне выдали заграничный советский паспорт, в котором значилось: „для выхода замуж за офицера французской армии”, а в паспорте моей матери стояло: „для сопровождения дочери”. Товарищ, который выдал мне паспорт, сурово посмотрел на меня и сказал в напутствие: „Что, у нас своих мало, что вы за чужих выходите?”
В 18-м году сдала экзамены, получила свидетельство об окончании архитектурно-строительного отделения Московских женских строительных курсов, помеченное 27-м июня 1918 года. На той же Новой Басманной, где находились мои курсы, в бывшем Институте для благородных девиц, мне выдали заграничный советский паспорт, в котором значилось: „для выхода замуж за офицера французской армии”, а в паспорте моей матери стояло: „для сопровождения дочери”. Товарищ, который выдал мне паспорт, сурово посмотрел на меня и сказал в напутствие: „Что, у нас своих мало, что вы за чужих выходите?”Было очень жарко. Лиличка, загоревшая на солнце до волдырей, лежала в полутёмной комнате; Володя молчаливо ходил взад и вперёд. Не помню, о чём мы говорили, как прощались ... Подсознательное убеждение, что чужая личная жизнь — нечто неприкосновенное, не позволяло мне не только спросить, что же будет дальше, как сложится жизнь самых мне близких, любимых людей, но даже показать, что я замечаю новое положение вещей.
А на следующий день, прямо с утра, приехала Лиля, будто внезапно поняв, что я действительно уезжаю, что выхожу замуж за какого-то чужого француза, и что накануне, в Левашове, я была, чтобы попрощаться с Володей ... „Может быть, ты передумаешь, Элечка? Не уезжай! Выходи лучше за Рому”31![]()
На пристань Володя не приехал, т.к. мама не сменила гнев на милость. На многие годы я увезла с собой молчаливого Володю, ходившего по полутёмной комнате, а Лиличку такой, какой она была на пристани, в час отбытия. Это было в июле 1918 года. Жара, голодно, по Петрограду гниют горы фруктов. Есть их нельзя: холера, как сыщик, хватает людей где попало — на улице, в трамвае, по домам. С немыслимой тоской смотрю с палубы на Лиличку, которая тянется к нам, хочет передать нам свёрток с котлетами, драгоценным мясом. Вижу её удивительно маленькие ноги в тоненьких туфлях рядом с вонючей, может быть холерной, лужей, её тонкую фигурку, глаза ...
В Стокгольме нас сразу посадили в карантин: на пароходе повар заболел холерой, а за ним несколько пассажиров. Незабываемо отвращение, которое во мне вызвали шведские еды, особенно пирожные ... По ту сторону воды, рукой подать, вставала жизнь “в другом разрезе”.
Мы собирались дома и в гимназии, требовали автономии Польши, выносили резолюции и организовали кружок для изучения политической экономии. Руководителем кружка выбрали Осю Брика, брата нашей гимназистки. Он учился в восьмом классе 3-й гимназии, и его только что исключили за революционную пропаганду. Все наши девочки были влюблены в него, и на партах перочинным ножиком вырезали “Ося”. Я познакомилась с ним только тогда, когда он с сестрой зашёл за мной, чтобы вместе идти к Жене, у которой в первый раз собирался наш кружок. Ося представился мне: „Я Верин брат”. Назавтра Вера, по Осиному поручению, спросила, как он мне понравился, и я со всей серьёзностью ответила, что очень, как руководитель группы. Мне было 13 лет, я совсем не думала о мальчиках, и Верин вопрос поняла чисто по-деловому.
Кружок наш жил недолго. Москву объявили на военном положении. По вечерам занавешивали окна одеялом, мама и папа раскладывали пасьянс. Каждый шорох казался подозрительным, и когда ночью раздался звонок, я, уверенная, что обыск, в мгновение ока разорвала и спустила в уборную многочисленные брошюрки и фотографии Марии Спиридоновой и похорон Баумана. Оказалось — не обыск, а швейцар просил закрыть окна ещё плотнее.
Ждали еврейского погрома, и две ночи мы провели в гостинице. Я плакала и возмущалась, пытаясь объяснить, что нас потому и бьют, что мы не защищаемся, но меня не слушали.
Папа достал револьвер, который ночью лежал у него на ночном столике, а на день запирался в несгораемый шкаф. Один раз папа забыл убрать его, и мама заперла спальню снаружи на ключ, так боялась оружия.
Ося стал звонить мне по телефону. Я была у них на ёлке. Ося провожал меня домой и по дороге на извозчике вдруг спросил: „А не кажется вам, Лиля, что между нами что-то большее, чем дружба?” Мне не казалось, я просто об этом не думала, но мне очень понравилась формулировка, и от неожиданности я ответила: „Да, кажется”. Мы стали встречаться ежедневно, я отнеслась к этой ежедневности как к должному. Ося испугался и в один из вечеров сказал мне, что ошибся, и что недостаточно любит меня. Я больше удивилась, чем огорчилась. У моей подруги Тани было несколько взрослых братьев, у братьев — товарищи. Я ходила к ней учить уроки, подружилась со всей компанией, и на ближайший гимназический бал отправились все вместе.
Бал устраивали в Охотничьем клубе, во всех залах. Мы с Таней — распорядительницы: большие белые воротники, красные распорядительские банты, по бутоньерке на каждом плече, лакированные туфли. Мы, конечно, окружены. Танины братья — взрослые, элегантные, необычайно эффектные. Мы танцуем непрерывно и отрываемся разве только для того, чтобы выпить лимонаду или съесть пирожное. Мы царицы бала. Пришли и Ося с Верой.
Узнав меня в таком великолепии, Ося не удержался, подошёл ко мне и пригласил на вальс. „Спасибо, но я устала”, — и тут же пошла танцевать с кем-то другим, блистательным.
Назавтра Ося позвонил мне и предложил пойти с ним, с Верочкой, Лизочкой и Сонечкой в оперу на «Манон Леско», у них ложа. Опять мы каждый день разговаривали по телефону, и каждый вечер Ося должен был приходить ко мне. Я хотела быть с ним ежеминутно, у него не оставалось времени даже на товарищей. Я делала всё то, что 17-летнему мальчику должно было казаться пошлым и сентиментальным. Когда Ося садился на окно, я немедленно оказалась в кресле у его ног, на диване я садилась рядом и брала его руку. Он вскакивал, шагал по комнате и только один раз за всё время, за полгода должно быть, Ося поцеловал меня как-то смешно, в шею, шиворот-навыворот.
Летом мы с мамой собрались уезжать в Тюрингию, расставаться с Осей мне было очень тяжело, хотя он обещал мне писать ежедневно.
Из Фридрих-Рода я немедленно написала Осе длинное любовное письмо с адресом, написала и завтра, и послезавтра. Прошли все сроки, ответа нет. Пишу второе письмо с адресом, думаю — то не дошло. Опять прошло много дней. Наконец Осин почерк! Бегу в сад, за деревья. Любезные три странички. Я тут же порвала письмо и бросила писать. Ося не удивился, он на это рассчитывал.
С горя у меня полезли волосы и начался тик. В это лето за мной начали ухаживать, и в Бельгии мне сделал первое предложение антверпенский студент Фернан Бансар. Я разговаривала с ним о боге, любви и дружбе. Русские девочки были тогда не по годам развитые и умные. Я отказала ему, не оставив тени надежды, и в Москве получила от него открытку с надписью: Je meurs ou je m’attache.
По возвращении в Москву я спустя несколько дней встретила Осю в Каретном ряду. Мне показалось, что он постарел и подурнел. Может быть, от пенсне, в котором я его ещё не видела. Постояли, поговорили, я держалась холодно и независимо и вдруг сказала: „А я вас люблю, Ося”.
С тех пор это повторялось семь лет. Семь лет мы встречались случайно, а иногда даже уговаривались встретиться, и в какой-то момент я не могла не сказать, что люблю его, хотя за минуту до встречи и не думала об этом. В эти семь лет у меня было много романов, были люди, которых я как будто любила, за которых даже замуж собиралась, и всегда так случалось, что мне встречался Ося, и я в самый разгар расставалась со своим романом. Мне становилось ясно даже после самой короткой встречи, что я никого не люблю, кроме Оси.
Экзамен по истории был последний. Мама ждала меня и волновалась, я ушла утром бледная, уверена была, что провалюсь.
У Герье я проучилась два семестра. Навыписывала из Германии чудесно изданные математические книги, сдала несколько экзаменов, но было, видите ли, далеко ездить на Девичье поле, и поэтому я перешла на архитектурные курсы, на Никитской, против Газетного переулка. Опять сдавала экзамены, а когда на моём курсе ввели лепку, проявила к ней большие способности, всё бросила и уехала в Мюнхен учиться скульптуре.
Гарри Блуменфельду было 18 лет, когда я увидела его у моей гимназической подруги Леночки. Он только что приехал из Парижа, куда его посылали учиться живописи. У Леночки тогда собирался всякий народ. Золотая молодёжь, какие-то полулитературные люди из кружка и великолепные единицы вроде Липскерова и Рубановича.
Гарри блистал на этом фоне, как блистал бы и на всяком другом. Всё, начиная с внешности, в нём было необычайно. Очень смуглый, волосы чёрные-лакированные; брови — крылья; глаза светло-серые, мягкие и умные. Выдающаяся нижняя челюсть и как будто не свой — огромный, развратный, опущенный по углам — рот. Беспокойное лицо. Мне он не нравился.
Где бы он ни оказался, он немедленно влюблял в себя окружающих. Разговаривал он так, что его, мальчишку, слушали бородатые люди. Говорил он о старых мастерах, о рисунке, о форме, о Сезанне, о новых путях в живописи, и каждая его фраза открывала вам новое. Ося бредил им. Когда выяснилось, что я еду за границу, я позвонила его сестре Нюточке, с которой была хорошо знакома, и попросила разрешения зайти посоветоваться о том, куда именно мне поехать.
Нюточка считалась невестой Вадима Шершеневича, он тогда уже писал стихи, подражая в своем творчестве Рубановичу. Когда он сказал Нюточке, что разлюбил её, она упала в обморок и, очнувшись, не нашла в комнате ни Вадима, ни фарфорового зайчика, единственного его подарка. Через неделю этот же фарфоровый зайчик красовался на туалетном столе его новой невесты.
Я трюхала на извозчике по Покровке и вижу — рядом, на другом извозчике, трюхает Гарри. Поздоровались, улыбнулись друг другу. Говорю: „А я еду к вам”. Гарри на ходу пересел ко мне. Затрюхали вместе.
Дома Гарри показал мне свои рисунки, действительно великолепные. При этом он разговаривал вдохновенно и убедительно. Он уговорил меня не ехать в Париж: „Вы слишком молоды, поезжайте в Мюнхен”.
До моего отъезда оставалось недели две, мы ездили за город и целовались.
Раз, когда я была у него, пришёл Ося. Мы вышли втроём на улицу. Ося был серый как туча. Он ревновал нас обоих.
Перед моим отъездом я заходила к Брикам прощаться. Это было в первый раз, что я видела Осю и думала о своём. Я была полна новых мечтаний и чувств. Ося заметил это и испугался. Он бросился целовать меня, стал просить не уезжать, остаться, говорил, что со мной уходит от него его молодость, но я была горда своим равнодушием и уехала. Через несколько месяцев за мной уехал Гарри.
Поехала я поздней весной с мамой и Эльзочкой. В Мюнхене мы остановились в пансионе, который показался мне шумным. Стали искать более подходящее жильё.
Наконец мы нашли прелестную комнату с красной мебелью и ярко-жёлтыми портьерами. Над письменным столом я повесила луврского скриба и переехала. А мама с Эльзочкой отправились дальше на курорт.
Я поступила в студию Швегерле, которая считалась тогда образцовой. Лепили голую модель, голову, раз в неделю рисовали. Работало человек 12–15. Старостой был американец, безошибочно угадывающий под платьем тело натурщицы. Приходит хорошенькая, изящная, тонкая, он и не смотрит, а нескладную с виду берёт. И, раздетая, она всегда оказывалась подходящей. Раз он как-то продемонстрировал нам тех, на которых мы настаивали, после чего мы перестали в это дело вмешиваться.
Из Москвы я получала ежедневно письма от Гарри и открытки от Оси Волка, в красочных сериях, двенадцать штук в конверте, на полотняной бумаге: огромные косматые головы Бетховена и Байрона. Получила я от него и письмо, философское и необычайно умное. Через несколько дней (удивительно не везло этому человеку) я прочла его письмо целиком в какой-то случайно подвернувшейся книге. Вместо ответа я послала ему заглавие книги и номер страницы. Получила одну открыточку и от Оси Брика, просто почтовую, без вида, и забыла ему ответить.
Заезжал ко мне из Киссингена папа. Он очень просил меня вернуться с ним в Москву, он плакал над моими погрубевшими от работы руками, гладил и целовал их, приговаривая: „Посмотри, Лилинька, что ты сделала со своими красивыми ручками! Брось всё это, поедем домой”. Но я решила твёрдо сделаться Праксителем.
Как-то во время работы моя приятельница Катя сказала мне, что приехал знакомый из России, ученик Санина — Алексей Михайлович Грановский, учиться у Рейнгардта режиссуре. Сегодня будет у неё. Из мастерской мы пошли к Кате. Грановский уже ждал. Он принёс красные розы и был явно разочарован тем, что Катя не одна. Я заметила это и ретировалась. Назавтра они зашли ко мне вместе, мы где-то гуляли. А на следующий день Грановский пришёл ко мне один с белыми розами. Катя не обиделась. У неё был свой роман.
Жизнь пошла рассчитанная точно. В мастерской я работала с половины 8-го утра до 6 вечера. Дома мылась, переодевалась, и за мной приходил Грановский. Мы ходили в театральный музей и по антикварам в поисках старых книг. Домой возвращались насыщенные впечатлениями, и тут Грановский показывал мне свои тетради с эскизами театральных декораций и планами своих будущих постановок. Неужели это их он осуществил в еврейском Камерном? Правда, в молодости всё кажется таким возвышенным и прекрасным.
Мы бродили до полуночи. Я слушала бесконечные рассказы о Рейнгардте, Санине, левом театре. Мы поедали моккаэйс в неправдоподобных количествах. Мы сидели под луной, на холме, в греческой беседке в парке.
В одну такую ночь мы увидели издали, сквозь деревья, длинную процессию, и нам послышалась тихая музыка. Процессия приближалась, и скоро мы стали различать девушек и юношей в белых покрывалах, у девушек лилии и пальмовые ветки в руках, а юноши издавали звуки гитарами и мандолинами. Процессия обошла беседку, поднялась по ступенькам и, танцуя, закружилась вокруг нас. Это дурачилась компания художников и студентов, нагоняя мистический ужас и восторг на влюблённые парочки в парке.
Каждую ночь мы возвращались пешком к Грановскому, комнатка у него была крошечная, но вход прямо с лестницы, и никто не мог нам помешать. Уже светлело, когда мы спускались вниз в кафе и опять ели мороженое. Домой я уезжала на такси, на которое уходили все мои деньги. Идиллия эта была прервана приездом Гарри, которого я ждала, и одновременно неожиданным приездом Оси Волка, который, вместо того чтобы ехать в Петербург на свадьбу брата, удрал ко мне и послал из Мюнхена поздравительную телеграмму. Он привёз мне коробку эйнемского шоколада, размера которой я просто испугалась.
Я совсем замоталась. Никто из трёх не должен был знать друг о друге. Ося жил в гостинице, с Гарри я бегала искать ателье, а Грановский оставался Грановским.
Несколько дней я не работала. Наконец отправила Осю в Москву — стало чуть легче. Но Гарри брал себе всё мое оставшееся от работы время. Я не любила, но бесконечно жалела его и восторгалась им. Когда я сказала Грановскому, что нам надо расстаться, он горевал страшно, не мог понять внезапного охлаждения, просил подождать, не спешить, подумать. Но я ушла, и меня почти невозможно было застать дома, так как я прямо с работы уходила к Гарри.
Через несколько дней я получила от Грановского письмо с вложенным в него билетом первого ряда на 9-ю симфонию Бетховена. Он просил меня прийти и послушать её. Он уезжает в Россию и хочет в последний раз посмотреть на меня. Я же его не увижу.
Я оделась со всей тщательностью, пошла и просидела весь концерт. Грановского я не искала и не увидела. Сейчас я думаю отчего-то, что его там и не было.
Мастерская у Гарри была большая, с верхним светом. Стены увешаны фотографиями с Джотто, Сезанна, со всего самого изысканного. Гарри приехал в Мюнхен для того, чтобы написать меня. Задуманы две картины: «Венера» и «Женщина в корсете».
«Женщина в корсете» будет писаться на манере рубенсовских детей и мадонн. Небольшой продолговатый четырёхугольный холст. Я в розовом элегантном корсете, в очень тонких чёрных шёлковых чулках и в атласных, чёрных, спадающих с пяток, утренних туфлях. Из-под корсета на груди кружево рубашки. По написанному уже портрету широкий и пышный венок из цветов, овальный, закрывающий где руку, где ногу и выписанный тщательно, опять же как у Рубенса.
Для «Венеры» холст уже натянут в три четверти моего роста. Я буду лежать голая, на кушетке, покрытой ослепительно белой, даже слегка накрахмаленной, простынёй. Как на блюдце, говорит Гарри. Куплен тёмно-серый тяжёлый шелк, он повешен густыми складками фоном позади кушетки. Куплено также множество подушек разнообразных размеров и форм, обтянутых золотой и серебряной парчой всех фактур и оттенков. Я буду полулежать. Волосы чуть сплетены и перекинуты на плечо. На одну руку я опустила голову, в другой деревянное, золочёное, найденное с величайшим трудом у антиквара венецианское зеркало. На простыне передо мной огромная пуховка в розовой пудре, губы подмазаны.
Гарри ходил проверять мою работу к Швегерле, ему понравилось то, что я делаю, и он пока не мешал мне работать и делал эскизы с меня по вечерам. Я стою, лежу и сижу часами, голая и страшно устаю, и мне уже начинает надоедать. Но рисунки удивительно хороши и с совершенным портретным сходством, и я терплю.
Сеансы эти кончились сами собой. У Гарри на почве его болезни начались дикие головные боли. Он ни на шаг не отпускал меня, рыдал, когда я делала попытку уйти. Боль оставляла его только к вечеру, уже невменяемого от усталости.
Работа моя остановилась, Гарри тоже почти не писал. Я решила, что Гарри должен отправиться в Швейцарию на поправку. Я заняла денег, где только могла, и он уехал. Я же немедленно отправилась домой, в Москву, на рождественские каникулы.
Впоследствии я узнала, что Гарри заболел туберкулёзом и попал в сумасшедший дом. Что он женился, и у него был ребёнок. Несколько раз он приходил к нам в Петрограде. Был уже тогда неизлечимым морфинистом, бросался на людей и требовал морфия — и опять попал в сумасшедший дом.
Умер он от туберкулеза 26 лет. Перед смертью подарил мне чудесный пейзаж — чёрный с белым. В голодные годы я продала его в Музей живописной культуры.
На еврейские балы я ходила редко, но после долгого отсутствия захотелось повидать tout Moscou, и мы с мамой отправились. Подробностей бала я не помню, помню только, что пришел Ося с Ниной Герасимовной Познанской, очень красивой женщиной, что мы поговорили с ним несколько минут, и я опять сказала, что люблю его, и когда мы собрались уезжать, я встретила Осю внизу около вешалки.
…Завтра Ося позвонил мне. Мы встретились на улице и пошли погулять. Я рассказывала про Мюнхен, про Гарри, про свою работу. Зашли в ресторан, в кабинет, спросили кофейничек, и без всяких переходов Ося попросил меня выйти за него замуж. Он сказал: „Лиличка, не отказывай мне, ведь ты — моя весна”. Это из «Вишневого сада», я это только теперь поняла. Очевидно, это было у него в умах, он ужасно любил Чехова. „Ты — моя весна…” Я сказала: „Давай, попробуем”. Это было в 1911 году.
На этот раз мои родители были очень довольны — они устали от постоянного террора. Брикам послали телеграмму за границу. В ответ получились два панических письма, одно — более сдержанное, от отца, в котором он писал, чтобы Ося не торопился совершать такой серьёзный шаг, так как он думает, что Осе нужен тихий семейный уют, а Лиля натура артистическая. И второе, совершенно отчаянное письмо от матери. Ося очень дружил с ней, и ей поэтому была известна вся моя биография.
Купила я их тем, что просила свадебный подарок в виде брильянтового колье заменить роялем «Стейнвей». Из этого они вывели заключение, что я бескорыстна и культурна.
Месяц до их приезда из-за границы мы провели чудесно. Осина сестра была тогда невестой медведенского Коли. В квартире никого, кроме нас четверых и бедного Павлика, который не находил себе места. „Везде целуются!”
Мы философствовали ночи напролёт и окончательно поверили, что созданы друг для друга, когда разговорились о сверхъестественном. Мы оба порознь много думали на эту тему, и я пришла к выводам, о которых рассказала Осе. Выслушав меня, он в совершенном волнении подошёл к письменному столу, вынул из ящика исписанную тетрадь и стал читать вслух почти слово в слово то, что я ему только что рассказала.
Новый год мы встречали у Крынкина на Воробьёвых горах, и в январе Ося уехал на месяц в Верхнеудинск на ярмарку по отцовским делам. Он продавал там бурятам тёмно-красные кораллы, без которых обычай запрещал им выдавать дочерей замуж.
Бывали случаи, когда приходилось распаковывать уже готовые к отправке в Москву тюки, если старый бурят валился к Осе в ноги, так как не успел вовремя добраться из степи, и дочери год пришлось бы ждать свадьбы, до следующей ярмарки.
В этот месяц я сняла квартиру, заказала мебель, купила бельё, ковры, посуду. Когда Ося приехал, он был потрясён великолепием, самостоятельностью и собственностью. И мы поженились 26 марта 1912 года.
Сыграли свадьбу. В синагоге мы венчаться отказались, и я предупредила папу, что если Мазе будет говорить речь, мы уйдём из-под хупы. Раввин был папин товарищ по университету, и папа предупредил его, что дочка у него с придурью.
Мама говорила, что из всей церемонии она помнит только мои зубы из-под белого шарфа. Невозможно было смотреть на Осю, со всей серьёзностью произносящего только что вызубренную еврейскую молитву. Словом, положение у нас было дурацкое.
Нас обвенчали. Раввин обиженным голосом сказал: „Я, кажется, не задержал молодых”, — и мы сели обедать, а после обеда в кухне долго рыдала Поля (мамина старая кухарка, фанатичка своего дела), оттого что в волнении забыла подать к ростбифу тёртый хрен. После этого она работала у нас лет пять и каждый раз, когда подавала ростбиф, говорила, мол, уж сегодня-то я не забыла хрен, как намедни.
Нас долго уговаривали поехать в свадебное путешествие, но нам надоело скитаться, и ужасно нравилась новенькая квартирка, и мы после обеда пошли домой.
А когда мы легли в постель, взяли с собой наше шампанское, и тут вот стихи Маяковского — „Вино на ладони ночного столика…”; я ему это рассказала потом.
Мы с Осей расставались только на несколько часов в день, которые он проводил в отцовской конторе.
Летом я поехала с ним в Нижний Новгород на ярмарку. Жили мы в караван-сарае. Номера были наверху, внизу — лавки. В номерах жили сарты, человек двести, Ося и я. Ося с 8 часов утра и до вечера должен быть в лавке. Я ещё сплю, тогда он запирает меня снаружи на ключ. Из моей комнаты в лавку проведён звонок; я дико скучаю и с утра до вечера капризничаю. Звоню я к Осе поминутно, то же самое делает Максим Павлович, когда Ося наверху. Ося с ног сбился, бегая взад-назад, и даже похудел.
Когда мы с Осей ездили в Нижний Новгород, я взяла с собой весь товарищеский архив, в котором были письма Оси и его товарищей друг к другу, женские письма, тетради, исписанные стихами и философскими трактатами. Я читала этот архив как роман, с горящими щеками, но это было самое увлекательное чтение в моей жизни, я чуть не плакала, когда обнаружила, что архив пропал.
Зимой поехали в Читу и на ярмарку в Верхнеудинск. Жили мы там без права жительства, за взятки полиции. Питались рябчиками и пельменями. Ося продавал бурятам кораллы и часы без потрохов, которыми они пользовались как коробочками. По вечерам мы с Осей ходили в собрание играть в лото и ужинать.
В один из вечеров загорелась деревянная китайская пагода, видная из окна собрания. Все кинулись к окнам. Горело замечательно красиво. Мы долго стояли и ждали, пока обвалится верхушка, но она всё не валилась. Мы попросили официанта последить и, как начнёт валиться, сказать нам, но верхушка рухнула сразу, и нам было очень обидно.
Этой же зимой мы ездили в Париж, и в кинематографе Патэ опять смотрели пожар китайской пагоды в Чите и увидели, как рухнула верхушка. Мы были потрясены чудесами техники.
По пути из Сибири в Москву на одной из станций мы помогли англичанину купить аквамарин. Познакомились, разговорились и за долгий семидневный путь подружились. Он лесопромышленник и в лесах Японии прожил двадцать лет. У него там домик, весь наполненный книгами, — маленький музей, который он собрал за эти двадцать лет одиночества.
Ровно два года назад ему пришлось по делам ехать в Токио. В коридоре международного вагона он увидел девушку удивительной красоты. Она ехала в сопровождении пожилой дамы, своей компаньонки. Разговаривали они по-английски и, подъезжая к Токио, заволновались, не будучи уверены, Токио ли это. Наш англичанин любезно помог им, обменялись несколькими фразами, поезд медленно и плавно подкатил к дебаркадеру, дамы сели в экипаж и поехали в гостиницу, англичанин за ними. На следующий день в холле он подошёл к ним, как знакомый, и два дня они провели вместе.
Путешественницы уехали к себе в Америку, а англичанин — в лес.
Он написал ей письмо, которое шло месяц, и месяц шёл ответ. Он стал писать чаще, переписка сделалась ежедневной, полетели телеграммы. Он влюбился как сумасшедший и дал обет возложить цветы на могилу Саади, если она примет его предложение.
Предложение было принято, он поехал в Америку, вернулся, подготовил всё для её прибытия — и сейчас едет в Париж для того, чтобы там с ней обвенчаться.
В Москве мы получили телеграмму о том, что они приезжают, заказали им комнату в «Метрополе» и встретили на вокзале. Она действительно оказалась красавицей. Величественная блондинка, с крошечной горделивой головкой, по-американски элегантная. На шее сибирский аквамарин в оправе из брильянтов.
Первое, о чём она спросила меня, — в какую я хожу церковь. Мы водили их по Москве, надарили им русских платков и массу кустарной мелочи.
Они уехали на могилу Саади, а оттуда к себе.
Через несколько дней после объявления войны я получила от них патриотическую телеграмму и два письма, одно за другим, в которых они писали мне, что, так как муж мой, конечно, на войне, то чтобы я знала, что у меня есть друзья и что их дом — это и мой дом.
Но мне было не до них, и я потеряла их адрес.
Две осени мы ездили в Туркестан, эти оба раза слились в моей памяти, хотя второй раз с нами ездил Липскеров.
Туркестан до того нам понравился, что мы мечтали прожить там несколько лет. Мы были в Самарканде, Ташкенте, Коканде, Бухаре, Намангане, Андижане, Оше.
Мы ездили из города в город, в поездах, с отдельными вагонами “для сартов”, как для скота, и сарт мог купить себе любой билет, хоть первого класса, его все равно сажали в этот вагон.
Мы переезжали в грузовике пустыню, обгоняя караваны верблюдов. Целые дни просиживали в лавках на базаре, пили зелёный чай и ели горячие лепёшки со свежим инжиром и виноградом.
Мы бродили по глиняным улицам, встречали сарта в золотистом халате, с большой розовой розой за ухом, женщину в сером и девушку в красном, одинаково запеленатых.
Над глиняными стенами висели красные осенние абрикосовые ветки.
Мы выходили на площадь, окружённую голубыми мечетями, и на площади груды фруктов и дынь, а около них, поджав ноги, сарты в пёстрых чалмах и халатах.
В Самарканде мы подружились с торговцем книгами Шалазаровым, и я большую часть времени проводила у него в лавке. Он никак не мог понять, чем торгует Липскеров, и когда нам, наконец, удалось объяснить ему, что он поэт, воскликнул: „Понимаю, понимаю, человек, который говорит из сердца”.
Он рассказал нам печальную историю. Пятнадцать лет он прожил со своей женой, и она оставалась бесплодной. Он не хотел другой жены, но отсутствие детей — страшное несчастье, и старая жена сама уговорила его жениться вторично. Он женился, и в тот же год обе женщины забеременели. Он чуть не плакал, когда рассказывал нам это.
Принимали нас пышно, с подарками. Мы привезли в Москву неисчислимое количество халатов, платков и шёлковых материй. Нас закармливали пловами. Я ходила на женскую половину, — меня обступали со страшным гамом, женщины щупали материю платья, вязаную кофту, шляпу. Поднимали даже юбку.
Один богатый купец принимал нас с помпой, по-европейски, за столом и со стульями, и пошёл к женщинам предупредить о моём приходе. Он вернулся к нам весёлый, с грудным ребёнком на руках. Вот, говорит, ездил в Москву, вернулся, всё дела были, к женам никак не мог зайти и не знал даже, что должно было что-то родиться, а сыну, оказывается, два месяца. Подумать только — ребёнок мог родиться и умереть, а отец ни о чём и не знал бы.
В Самарканде же мы поехали осматривать публичные дома. Существовали они недавно. Раньше в Туркестане проституток не было — были бачи, мальчики с длинными волосами, они танцевали на свадьбах, пели песни в чайханах и заменяли узбекам проституток, но русское правительство прекратило это безобразие, открыло публичные дома, и нам захотелось посмотреть на такое культурное достижение.
Это целая улица за городом, единственное место, где можно встретить женщину с открытым лицом. Поехали я, Ося и два пожилых сарта, приятели. У заставы нас останавливает полицейский и обращается ко мне: „Пожалуйста, в будку”. Я иду, Ося за мной. В будке молодой пристав: „Вы куда идёте?” Ося: „В публичный дом”. Пристав: „А это кто?” Ося: „Это моя жена”. — „Как же вы с женой в такое место вместе идёте?” — Ося: „Да вот интересуется”. Тогда пристав стал спрашивать меня, знаю ли я, куда меня везут, стал рассказывать, что там происходит, и когда окончательно убедился, что я еду добровольно, всё-таки послал с нами городового.
Улица эта вся освещена разноцветными фонариками, на террасах сидят женщины, большей частью татарки, и играют на инструментах вроде мандолин и гитар. Тихо и нет пьяных. Мы зашли к самой знаменитой и богатой. Она живёт со старухой-матерью. В спальне под низким потолком протянуты верёвки, и на верёвках висят все её шёлковые платья. Всё по-восточному, только посередине комнаты двуспальная никелированная кровать.
Принимала она нас по-сартски. Низкий стол, весь установлен фруктами и разнообразными сладостями на бесчисленных тарелочках, чай — зелёный.
Пришли музыканты, сели на корточки и заиграли, а хозяйка наша затанцевала. Платье у неё серое до пят, рукава такие длинные, что не видно даже кистей рук, и закрытый ворот, но когда она начала двигаться, оказалось, что застегнут один воротник, платье разрезано почти до колен, а застежки никакой. Под платьем ничего не надето, и при малейшем движении мелькает голое тело.
В Оше нет гостиницы, и нам пришлось ночевать у знакомых. Чистая комната, спим на полу, на пышной слойке из одеял и подушек. Кормят до отвала, одна беда: вместо уборной — конюшня, не образная, а настоящая, с лошадками. Ося попросил у хозяина ночной горшок, — не понимает. Ося объясняет, что круглый, с ручкой, — ничего не понимает. Созвали семейный совет, пригласили соседей. Одного осенило, вспомнил, что действительно в соседней деревне такой предмет имеется.
Вечером все пошли погулять. Возвращаемся уже при луне, ночь светлая и душистая. Вдруг в тишине нам слышится далёкий топот и на прямой, как стрела, дороге мы различаем всадника. Ближе, ближе, и, наконец, мимо нас на белом коне под луной промчался сарт в развевающемся халате и с ночным горшком в вытянутой руке.
В Коканде у нас был приятель, богатый купец, у него сын 17 лет, смуглый и толстый. Сын этот торгует на базаре. Сидит целый день в лавке, что наторгует, то и проест. Как товар кончится, отец покупает новый, опять сын торгует, пока не кончатся и товар, и деньги. Когда этот малый увидел меня, он сорвал в саду самую большую и красивую розу, сел на базаре, поставил розу в чайник и стал ждать, когда я пройду мимо. В этот день меня не было. Он переменил воду и ушёл домой. Назавтра опять ждёт, — роза совсем распустилась, стала огромной, того и гляди, осыплется. Маклер Алимбаев сжалился над ним, прибежал ко мне: „Пройдите, пожалуйста, мимо лавки такого-то, он очень ждёт”.
Роза действительно была волшебная. Мальчик был в восторге, а я почувствовала себя принцессой из тысячи и одной ночи.
Квартира у В. была огромная. Холл в мавританском стиле, и, когда я сидела в нем, мне хотелось крикнуть: „Банщица, пару!” А в комнатах — в каждой — по коллекции фарфора, в одной севр, в другой сакс, в третьей веджвуд. Коллекции эти не собирались, конечно, а были куплены вместе с мебелью в мебельном магазине.
У Фанюши В. были сёстры победнее, и все они очень гордились Фанюшиным аристократизмом. Интересовались они главным образом царями, придворными и их взаимоотношениями и, — несмотря на свою внешность и интонацию, не оставляющие никаких сомнений в их национальности, — пекли куличи и праздновали Рождество, а Мане И., сестре Фанюши, так и не удалось подарить сестре изящнейшее яйцо на Пасху. Обошла все магазины и не нашла подходящего, всё не те инициалы, на всех яйцах X и В, X и В, а ей нужно Ф. и В.
У Мани И. был очень корректный муж, но не было детей, зато их канарейка, жившая в клетке в полном одиночестве, вдруг снесла яйцо: обвинили Маниного мужа.
Фанюша решила снять дачу в Царском Селе. Я там ещё не бывала, и она предложила мне с ней поехать. Поезд оказался переполненным, и пришлось сесть в разных концах вагона. Наискось от меня сидит странный человек и на меня посматривает; одет он в длинный суконный кафтан на шёлковой пёстрой подкладке, высокие сапоги, прекрасная бобровая шапка и палка с дорогим набалдашником, при всём этом грязная борода и чёрные ногти. Я долго и беззастенчиво его рассматривала, а он совсем скосил глаза в мою сторону, причём глаза оказались ослепительно-синие и весёлые, и вдруг прикрыл лицо бородёнкой и фыркнул. Меня это рассмешило, и я стала с ним переглядываться. Так и доехали до Царского. Я побежала к Фанюше, мы вместе вышли из вагона, и я тут же забыла бы о своем флирте, если бы мы не столкнулись с ним на платформе и моя спутница, раскланиваясь с ним, шепнула мне, покраснев: „Это Распутин”.
Ходили мы по Царскому, смотрели дачи, нашли одну подходящую, но в ней только что болели скарлатиной, и Фанюша испугалась за своих ребят. Пришли на вокзал, ждём обратного поезда в Петербург. Опять Распутин! Он немедленно подошёл к нам — рассказал, что ездил в Царское, во дворец, и сел с нами в один вагон. Сначала он успокаивал Фанюшу, что это лучше, если известно, что на даче была скарлатина — по крайней мере, сделают дезинфекцию, а в другой даче кто его знает, что могло быть, а потом стал разговаривать уже только со мной:
— Кто ты такая? есть ли муж? где живешь? что делаешь? Ты ко мне приходи обязательно, чайку попьём. Бери и мужа с собой, только позвони раньше по телефону, а то у меня всегда народу много, обязательно раньше позвони, телефон такой-то.
И Фанюше раз двадцать:
— Обязательно приведи её.
Приехала домой, рассказала Осе. Пойти мне к Распутину ужасно хотелось, но Осю даже уговаривать не пришлось — он заявил сразу и категорически, что об этом не может быть и речи, что нисколько это не интересно и что каждому и так известно, какая это банда. Что он даже не верит, что я могу этим интересоваться. Я вздохнула, и дело ограничилось тем, что мне дня два все извозчики казались Распутиными, даже глаза у большинства из них оказались такими же ослепительно-синими.
Сейчас В. в Париже, они перешли в католичество и ведут светский образ жизни.
Не помню, где я познакомилась с Любочкой С. С виду я помню её ещё в Москве. Крошечная, вся кругленькая, белая с чёрным. Лицо пушистое и одна щёчка в родинках. В ушах жемчужины, в одном белая, а с той стороны, где нет родинок, для равновесия — чёрная. Она была замужем раз пять, и всем мужьям отчаянно изменяла. С. бросал в неё старинным фарфором подешевле до тех пор, пока она не швырнула в него самые ценные часы из его коллекции, тогда он угомонился и дал ей развод.
Она усиленно приглашала меня, оттого что я была “элегантна” и могла разговаривать об искусстве и литературе. За ней ухаживал великий князь Дмитрий Павлович и даже подарил ей кисточки от своей сабли. Мы завтракали втроём с князем Трубецким, жуликом и проходимцем. Лучше всего её характеризует следующий диалог:
— Любовь Викторовна, говорят, что вы с мужчинами живете за деньги.
— А что, Лиля Юрьевна, разве даром лучше?
Мы ходили с ней вдвоём, в декольтированных платьях, в Мариинский театр на шикарные спектакли, на «Памелу» с Кшесинской. И если бы не исполнение гимнов союзников перед началом спектакля, то при виде покрытых бриллиантами женщин в ложах и своих собственных обнажённых рук я могла бы забыть о войне. Напомнил мне о ней Митька Рубинштейн, спекулянт, друг Распутина, дико разбогатевший на поставках в армию. Он сидел недалеко от нас с женой в три обхвата, увешанной драгоценностями. Любочка назвала мне его с оттенком презрения в голосе, но ответила на его поклон торопливой и очаровательной улыбкой.
В последнее время моих встреч с Любочкой её любовником был офицер Комаров, а у Комарова был друг офицер Собакин, который очень за мной ухаживал. Оба они высказывали взгляды довольно либеральные, “жидов” не ругали и были на седьмом небе, когда убили Распутина. Радовались они, правда, победе над немецким влиянием Александры Фёдоровны, но я этим тогда интересовалась не очень глубоко, и особого отвращения мне эти господа военные не внушали до того момента, когда мы все вчетвером возвращались откуда-то к Любочке обедать. Идём по Невскому, оживлённо беседуем, вдруг Собакин срывается, налетает на прохожего солдата и со сжатыми кулаками и искаженным яростью лицом ругает его на всю улицу за то, что он, оказывается, не то не отдал, не то не так отдал ему честь. Солдат стоял перед ним бледный, дрожащий. Я постояла минутку, совершенно потрясённая, повернулась и пошла домой. Собакин побежал за мной, я велела ему немедленно убираться, дома не подходила на его телефонные звонки и почти перестала встречаться с Любочкой и Комаровым. Не знаю даже, когда именно они удрали за границу. Кто-то видел их в Константинополе в 18-м году. Комаров влачил жалкое существование, а Любочке повезло, она вышла замуж за старого еврея, трамвайного короля и миллионера.
Мы дружили с известной актрисой Г. Это самая смешная и талантливая женщина на свете — игровая насквозь. Я присутствовала при одной из тяжелейших драм её жизни, она вызвала меня ночью по телефону оттого, что боялась оставаться одна в таком тяжёлом состоянии. Я примчалась и застала её перед зеркалом, всю в слезах. Она сидела в кресле из карельской берёзы, завёрнутая в изумительнейший халат, и на музейнейшем столике собирала письмо, изорванное в клочья, письмо любимого к его жене, с которой, он клялся, что больше не переписывается. Она страдала, плакала и принимала позы и вызвала меня оттого, что без публики это делать скучно.
После этого неслыханного предательства она прогнала его и рассказывала, что через несколько недель встретила его случайно на улице. Я спросила:
— Сознайтесь, сердце всё-таки ёкнуло?
Она окинула меня гордым взглядом и ответила:
— Ёку никакого, но впечатление потрясающее!
У нас это осталось поговоркой.
Романы свои она называла “навертами” и, когда ей нравился какой-нибудь мальчик, просила: „Навертите меня ему”. Все наверты начинались по одному шаблону: навертываемому посылалась городская телеграмма в сто слов и букет цветов с вложенными в него фотографическими карточками во всех ролях и позах.
Главной подругой и навёртчицей была Надя. Надя навёртывала исступлённо, и молодой человек не подозревал, когда объяснялся в любви, что Надя сидит за ширмой и проверяет свой наверт. Она уморительно рассказывала об одном навёрнутом французе, который объяснялся стоя на коленях, и то выкрикивал страстные слова, то переходил на лирический шёпот и обнимал её ноги, а она, в зависимости от этого, восклицала: „Мусье, мусье, не кричите так, mon mari, мусье Б.!” Мусье недоумевал, а она, оказывается, жила в одной квартире со своим мужем А., и нельзя было шуметь, а роман у неё был с Б., который дико ревновал её.
С Г. познакомились мы у Ф. — отец немец, мать еврейка, а дети этакие метисы, расчётливые и очень темпераментные. Они собирали старинные вещи, у них был один из первых автомобилей в Москве, огромный английский белый бульдог, змея и обезьянка.
Семейство очень эксцентричное. Любовники м-м Ф. дарили ей бриллианты, и муж был в восторге, когда она под Новый год потеряла брошь каратов в тридцать.
Называл он ее die Bildshöne, и она действительно была красавица. В кабинете висела огромная картина в золотой раме: лежащая голая женщина со спины. Ф. подводил каждого к этой картине и спрашивал: „Как вам нравится моя жена?” Гости хвалили. Я пришла как-то к ним и постучалась в комнату Софьи Николаевны.
— Войдите.
Вхожу, лежит Софья Николаевна в царственной кровати из красного дерева, а поверх постели, поперёк, Карл Иванович в голубых подштанниках — гостей принимают.
К животным в этой семье относились как к людям, обезьянке делали маникюр и водили её к хиромантке, и когда она укусила девочку во дворе и с Ф. требовали штраф, он ни за что не соглашался платить и орал: „Lass der Affe sitzen!” Обезьянку звали Гайдэ в память второй жены Дон Жуана, к ней приходила в гости обезьянка мальчишки-болгарина — Яшка, они часами сидели, обнявшись на окне, смотрели на улицу и разговаривали.
С дочкой Ф. никогда не бывало скучно; вчера она увлекалась Фрейдом, сегодня изобретала шапку-невидимку, а завтра уговаривала нас всех ехать в Африку и в складчину выстроить кинематограф между Александрией и Каиром. „Подумайте, как выгодно: в городе пятьсот тысяч жителей — и ни одного кино”. Она была влюблена в Казанову и мечтала попасть в ад для того, чтоб с ним там встретиться. Последний её роман в России был с женщиной в брюках и пенсне, которая говорила: „Я был, я пошёл” и целовала дамам ручки. Ося видел её недавно на улице, беременную, и даже испугался.
После революции Ф. удрали за границу. Матери автомобилем отрезало обе ноги, и она вскоре после этого умерла. Дочь я видела в 23-м году в Париже, но совершенно не помню, какая она, должно быть, было совсем не интересно.
Эти два года, что я прожила с Осей, самые счастливые годы моей жизни, абсолютно безмятежные.
Потом была война 14-го года, мы с Осей жили уже в Петербурге. Я уже вела самостоятельную жизнь, и мы физически с ним как-то расползлись…
Прошёл год, мы уже не жили друг с другом, но были в дружбе, может быть, ещё более тесной. Тут в нашей жизни появился Маяковский.
Чувство самосохранения иногда толкает на самоубийство.
С.Е. Лец
С Маяковским познакомила меня моя сестра Эльза в 1915 году, летом в Малаховке. Мы сидели с ней и с Левой Гринкругом вечером на лавочке возле дачи.
Огонёк папиросы. Негромкий ласковый бас:
— Элик! Я за вами. Пойдём погуляем?
Мы остались сидеть на скамейке.
Мимо прошла компания дачников. Начался дождь. Дачный дождик, тихий, шелестящий. Что же Эля не идёт?! Отец наш смертельно болен. Без неё нельзя домой. Где, да с кем, да опять с этим футуристом, да это плохо кончится…
Сидим как проклятые, накрывшись пальто. Полчаса, час… Хорошо, что дождь не сильный, и плохо, что его можно не заметить в лесу, под деревьями. Можно не заметить и дождь и время.
Нудный дождик! Никакого просвета! Жаль, темно, не разглядела Маяковского. Огромный, кажется. И голос красивый.
…До этой встречи я только один раз видела Маяковского в Литературно-художественном кружке, в Москве, на вечере какого-толетнего юбилея Бальмонта. Не помню, кто и какие произносил речи, помню только, что все они были восторженно юбилейные и один только Маяковский сказал блестящую „речь от ваших врагов”. Он говорил убедительно и смело, в том роде, что это раньше было красиво „дрожать ступенями под ногами”, а сейчас он предпочитает подниматься на лифте. Потом я видела, как Брюсов отчитывал Володю в одной из гостиных Кружка: „В день юбилея… Разве можно?!” Но явно радовался, что Бальмонту досталось.
Бальмонт принимал церемонию без малейшей иронии. Он передвигался по комнатам, как больной, поддерживаемый с обеих сторон поклонницами, и, когда какая-то барышня подлетела к нему и не то всхлипнула, не то пропела „поцеловаться”, — он серьёзно и торжественно протянул губы.
В тот же вечер я видела, как Володя стоял перед портретом Репина «Толстой» и говорил окружавшей его кучке джентльменов:
— Надо быть хамом для того, чтоб так написать.
Мне и Брику всё это очень понравилось, но мы продолжали возмущаться, я в особенности, скандалистами, у которых ни одно выступление не обходится без городового и сломанных стульев, и меня так и не удалось ни разу вытащить проверить, в чём дело.
И этот опасный футурист увёл сестру мою в лес. Представляете себе мои опасения! Когда они вернулись, я изругала их, насколько тогда умела, и, мокрая и злая, увела Эльзу домой.
Вот наконец огонёк папиросы. Белеет рубашка. На Эльзу накинут пиджак Маяковского.
— Куда же ты пропала?! Не понимаешь, что я не могу без тебя войти в дом! Сижу под дождём, как дура…
— Вот видите, Владимир Владимирович, я говорила вам!
Маяковский прикурил новую папиросу о тлеющий окурок, поднял воротник и исчез в темноте. Я изругала Эльзу и, мокрая, злая, увела её домой.
На следующий день мама жаловалась мне, что Маяковский повадился к Эльзочке, что просиживает ночи напролёт, так что мама через каждые полчаса встаёт с постели гнать его, а утром он хвастается, что ушёл в дверь, а вернулся в окно. Он выжил из дому «Остров мёртвых», а когда один раз не застал Эльзу дома, оставил жёлтую визитную карточку таких размеров, что мама не удержалась и на следующий день вернула ему карточку со словами: „Владимир Владимирович, вы забыли у нас вчера вашу вывеску”.
Маяковский в то время был франтом; визитные карточки, визитка, цилиндр — правда, всё это со Сретенки, из магазинов дешёвого готового платья. Но бывали трагические случаи, когда, уговорившись с вечера прокатить Эльзу в Сокольники, он ночью проигрывался в карты и утром в визитке и цилиндре катал её вместо лихача на трамвае. Володе шёл тогда двадцать второй год, а Эльзе было восемнадцать.
…До нашего знакомства в Москве видела я Володю один раз ещё в Питере, на Невском. В цилиндре, окружённый какими-то молодчиками, он страшно нагло посмотрел на меня…
Прошло около месяца после случайной встречи в Малаховке. Мы жили в Петрограде в крошечной квартире. Как-то вечером после звонка в передней я услышала знакомый голос и совершенно неожиданно вошёл Маяковский — приехал из Куоккалы, загорелый, красивый, сразу занял собой всё пространство и стал хвастаться, что стихи у него самые лучшие, что мы их не понимаем, что и прочесть-то их не сумеем и что, кроме его стихов, гениальны ещё стихи Ахматовой. Меня в детстве учили, что нехорошо хвастаться, и я сказала ему, стараясь быть вежливой, что его произведений я, к сожалению, не читала, но прочесть их попробую правильно, если они у него с собой. Есть «Мама и убитый немцами вечер». Я прочла всё как надо, Володя очень удивился и спросил:
— Не нравится?
Я знала, что авторов надо хвалить, но меня так возмутило Володино нахальство, что я ответила:
— Не особенно.
…Умер папа. Я вернулась из Москвы с похорон. Приехала в Питер Эльза, опять приехал Володя из Финляндии. Поздоровавшись, он пристально посмотрел на меня, нахмурился, потемнел, сказал: „Вы катастрофически похудели…” И замолчал. Он был совсем другой, чем тогда, когда в первый раз так неожиданно пришёл к нам. Не было в нём и следа тогдашней развязности. Он молчал и с тревогой взглядывал на меня. Мы умоляюще шепнули Эльзе: „Не проси его читать”. Но Эльза не послушалась, и мы услышали в первый раз «Облако в штанах». Читал он потрясающе. Между двумя комнатами для экономии места была вынута дверь. Маяковский стоял, прислонившись спиной к дверной раме. Из внутреннего кармана пиджака он извлёк небольшую тетрадку, заглянул в неё и сунул в тот же карман. Он задумался. Потом обвёл глазами комнату, как огромную аудиторию, прочёл пролог и спросил — не стихами, прозой — негромким, с тех пор незабываемым голосом:
— Вы думаете, это бредит малярия? Это было. Было в Одессе.
Мы подняли головы и до конца не спускали глаз с невиданного чуда.
Маяковский ни разу не переменил позы. Ни на кого не взглянул. Он жаловался, негодовал, издевался, требовал, впадал в истерику, делал паузы между частями.
Вот он уже сидит за столом и с деланной развязностью требует чаю.
Я торопливо наливаю из самовара, я молчу, а Эльза торжествует — так и знала!
Мы обалдели. Это было то, что мы так давно ждали. Последнее время ничего не могли читать. Вся поэзия казалась никчёмной — писали не так и не про то, а тут вдруг и так и про то.
Первым пришёл в себя Осип Максимович. Он не представлял себе! Думать не мог! Это лучше всего, что он знает в поэзии!.. Маяковский — величайший поэт, даже если ничего больше не напишет.
Ося взял тетрадь с рукописью и не отдавал весь вечер — читал. Маяковский сидел рядом с Эльзой и пил чай с вареньем. Он улыбался и смотрел большими детскими глазами. Я потеряла дар речи.
Маяковский взял тетрадь из рук О.М., положил её на стол, раскрыл на первой странице, спросил: „Можно посвятить вам?” — и старательно вывел над заглавием: Лиле Юрьевне Брик.
В Финляндии Маяковский уже прочёл «Облако» Горькому и Чуковскому и сказал, что Горький плакал, когда слушал его.
А позднее Чуковский признавался нам “по секрету”, что его в такой степени волнует Маяковский, что он не может работать, когда знает, что тот в Куоккале.
В этот вечер Маяковский так и не вернулся туда — оставил там даму сердца, все свои вещи, бельё у прачки и въехал в номера «Пале-Рояль» недалеко от нас.
…С этого дня Ося влюбился в Володю, стал ходить вразвалку, заговорил басом и написал стихи, которые кончались так:
До этого времени у нас к литературе интерес был пассивный. Правда, в студенческие времена, ещё до того, как мы поженились, Ося с двумя товарищами надумали заработать деньги и написали роман под заглавием: «Король борцов». Печатать и продавать решили выпусками, как Ната Пинкертона; первый выпуск, с соответствующей картинкой на обложке, газетчикам понравился и прошёл хорошо, второй вышел с небольшим опозданием и прошел хуже, а третий сдали чуть ли не через месяц после второго. Газетчик посмотрел презрительно и сказал:
— Я думал, что роман, а это плетёнка.
Мы с тех пор говорим это об очень многих книгах.
Но главным образом мы с Осей читали тогда друг другу вслух; прочли «Преступление и наказание», «Братьев Карамазовых», «Идиота», «Войну и мир», «Анну Каренину», «Заратустру», «In vino veritas» Киркегора, Кота Мура… — это не считая мелочей. И, пожалуй, тогда уже в нас были признаки меценатства. Мы даже свезли как-то одного поэта в Туркестан оттого, что он очень любил Восток.
Никто не хотел печатать «Облако», хотя Володя тогда уже печатался в ««Новом Сатириконе»».
А сколько стоит самим напечатать? Маяковский побежал в ближайшую типографию и узнал, что тысяча экземпляров обойдется в 150 рублей, причём деньги не сразу, можно в рассрочку. О.М. вручил Маяковскому первый взнос и сказал, что остальное достанет. Маяковский унёс рукопись в типографию.
Принцип оформления был “ничего лишнего”, упразднили даже знаки препинания. Смешно сказал лингвист, филолог И.Б. Румер, двоюродный брат О.М.:
— Я сначала удивился, куда же девались знаки препинания, но потом понял — они, оказывается, все собраны в конце книги.
Вместо последней части, запрещённой цензурой, были сплошные точки.
Перед тем как печатать поэму, Маяковский думал над посвящением. Лиле Юрьевне Брик? Лиле? Очень нравилось ему: „Тебе, Личика” — производное от Лилечка и личико — и остановился на „Тебе, Лиля”.
Когда я спросила Маяковского, как мог он написать поэму одной женщине (Марии), а посвятить её другой (Лиле), он ответил, что, пока писалось «Облако», он увлекался несколькими женщинами, что образ Марии в поэме меньше всего связан с одесской Марией, и что в четвёртой главе раньше была не Мария, а Сонка. Переделал он Сонку в Марию оттого, что хотел, чтобы образ женщины был собирательный; имя Мария оставлено им как казавшееся ему наиболее женственным. Поэма эта никому не была обещана, и он чист перед собой, посвящая её мне. Позднее я поняла, что не в характере Маяковского было подарить одному человеку то, что предназначалось другому.
Маяковский спросил Брика, есть ли название для иконы-складня, состоящей не из трёх частей, как триптих, а из четырёх. Тот ответил, что не знает, существует ли такая икона, а если существует, её можно назвать тетраптих.
Мы знали «Облако» наизусть, корректуры ждали, как свидания, запрещённые места вписывали от руки. Я была влюблена в оранжевую обложку, в шрифт, в посвящение и переплела свой экземпляр у самого лучшего переплётчика в самый дорогой кожаный переплёт с золотым тиснением, на ослепительно белой муаровой подкладке. Такого с Маяковским ещё не бывало, и он радовался безмерно.
Помню, как, затаив дыхание, раз сто слушал «Облако» Хлебников, как, получив только что вышедшую книгу, стал вписывать в свой экземпляр запрещённые цензурой места, и как Маяковский, застав его за этим занятием, отнял у него книгу. Он не на шутку испугался, что Хлебников по рассеянности забудет её на бульварной скамейке, и тогда Маяковскому несдобровать. Он сказал Хлебникову: „Вы с ума сошли, Витечка…”
Ося служил в автомобильной роте. Служба была утомительная, скучная, отнимала всё время, и Ося так и тянул бы лямку до самой революции, но вдруг начальство решило, что незачем евреям портить красивый пейзаж авточасти, и велело в одни сутки всех собрать и под конвоем отправить в село Медведь, в дисциплинарный батальон, а оттуда на фронт. Я, конечно, сначала в слёзы, а потом заявила категорически, что если Ося позволит вести себя, как вора и отцеубийцу, под конвоем и т.д. и т.д., то я ему не жена и не друг и никогда в жизни не прощу этого. Что тут делать? Ося ложится в госпиталь. Тем временем евреев отправляют в Медведь, и, когда Ося выходит из госпиталя, начальство соображает, что не стоит на жида-вольноопределяющегося тратить двух конвойных и досылать его в Медведь, а лучше отправить его к воинскому начальнику.
А в село Медведь, как ни странно, попал не Ося, а я. В автомобильной же роте служил Осин родственник. Жена собралась с ним разводиться, а он развода не давал, и в самый разгар переговоров его отправили в Медведь. Отправили меня туда его уговаривать. Ехать надо всю ночь поездом, а спального вагона нет. Да от станции железной дороги часа два на лошадях, да в селе остановиться можно только на постоялом дворе. В качестве мужской силы послали со мной Володю. Он старательно охранял меня и, пока я часами изощряла своё красноречие, ходил за нами следом шагах в четырёх — куда мы повернём, туда и он. А когда ему это надоело, он догнал нас и строго сказал: „Послушайте, Петя, разводитесь-ка”.
Медведь произвёл на меня сильное впечатление количеством блох на постоялом дворе и количеством звёзд на небе. Был август, мы ехали ночью к станции на извозчике, полулёжа в коляске, лицом к небу, и на нас лил звёздный дождь. С тех пор я всегда вспоминаю Медведь при виде звёздного неба.
Пришло и Володино время служить, призвали на военную службу. В течение ночи знакомый инженер рассказал ему о правилах черчения, и он поступил в автомобильную роту чертёжником.
Нижние чины в армии не имели права ходить ни в театр, ни в ресторан, ни даже по улицам после определённого часа, а о том, чтобы как-нибудь проявить себя в общественном месте, не могло быть и речи.
Существовал в то время в Петрограде человек, называвший себя футуристом и издававший толстый альманах. Он взял у Маяковского стихи для второго номера.
Через некоторое время получаем книжку и читаем в ней антисемитскую статьишку Розанова. Маяковский пишет письмо в редакцию «Биржевых ведомостей», что просит не считать его в числе сотрудников этого альманаха. Через несколько дней он встретил издателя в бильярдной ресторана «Медведь». Маяковский в штатском. Издатель подошёл к нему и сказал: „Прочёл ваше письмо, вы дурак!” Маяковский озверел, но идти на скандал нельзя, и пришлось ограничиться обещанием дать по морде, как только можно будет надеть штатское платье легально.
При расплате я присутствовала вскоре после февральского переворота. Мы шли по Невскому, навстречу нам издатель с дамой. Маяковский извинился передо мной и поманил издателя рукой, тот отделился от своей дамы и немедленно получил звонкую пощёчину. Маяковский взял меня под руку и пошёл дальше, не оглядываясь. Потом издатель требовал дуэли, но Маяковский отказался, сославшись на дуэльный кодекс, запрещавший дворянину драться с евреем!
Часто думают, что в поведении Маяковского было много “игры”. Это неверно. Он без всякой игры был необычен. Его резкость в полемике не была наигранной, так же как не наиграна пощёчина, которую человек вынужден дать, если у него нет иных возможностей воздействия на противника. Были люди, не понимавшие этого, и принимали полученные ими оплеухи за щелчки, за игру.
Пощёчина, при которой я только что присутствовала, была дана всерьёз, так же как не была щелчком пощёчина, данная Арагоном Андрею Левинсону в Париже за клеветническую статью о Маяковском, опубликованную после его смерти.
Володя стал знакомить нас со своими. Начали поговаривать об издании журнала. Он зашел к Шкловскому, не застал его дома и оставил записку, чтобы пришёл вечером на Жуковскую, 7, кв. 42, к Брику. Шкловский служил с каким-то вольноопределяющимся Бриком и шёл в полной уверенности, что идёт к нему, а попал к нам. От неожиданности и смущения он весь вечер запихивал диванные подушки между спинкой дивана и сиденьем и сделал это так добросовестно, что мы их потом целый день вытаскивали — дедка за репку.
Изредка бывал у нас Чуковский, он жил в Куоккале и теперь был счастлив, что Володя оттуда уехал. Он говорил, что не может спокойно работать, когда знает, что Володя в одном с ним городе, хотя относился к нему восторженно и «Облако» ему очень понравилось. Как-то раз, когда мы сидели все вместе и обсуждали возможности журнала, он неожиданно сказал: „Вот так, дома, за чаем, и возникают новые литературные течения”. Мы ему тогда не поверили.
Постепенно стали ходить к нам Василий Каменский, Давид Бурлюк, Пастернак, Хлебников.
Пастернак приехал из Москвы с Марией Синяковой. Он был восторжен, не совсем понятен, блестяще читал блестящие стихи и чудесно импровизировал на рояле. Мария поразила меня красотой, она загорела, светлые глаза казались белыми на тёмной коже, и на голове сидела яркая, кое-как сшитая шляпа.
Синяковых пять сестёр. Каждая из них по-своему красива. Жили они раньше в Харькове, отец у них был черносотенец, а мать человек передовой и безбожница. Дочери бродили по лесу в хитонах, с распущенными волосами, и своей независимостью и эксцентричностью смущали всю округу. В их доме родился футуризм. Во всех поочерёдно был влюблён Хлебников, в Надю — Пастернак, в Марию — Бурлюк, на Оксане женился Асеев.
Я хорошо помню этот день, этот вечер.
В маленькой комнате раскинулся концертный рояль. Осенённый его крылом, Пастернак казался демоном.
Голубые озера Хлебникова вышли из берегов, потушили белую ночь за окном. Он не встал с кресла, длинные руки повисли. Улыбнулся, нахмурился и начал медленно, глухим тихим голосом. Глаза постепенно тускнели и совсем померкли. Он бормотал всё быстрее и кончил скороговоркой „Всё!” — выдохнул с облегчением.
И, наконец, Маяковский. Хлебников заулыбался. Все приготовились слушать. Стены комнаты раздвинулись.
Лазурь Хлебникова, золото Пастернака, остановившиеся глаза Марии, восторженные — Асеева.
Маяковский стоит, прислонившись к дверной раме, как тогда, когда в первый раз читал нам «Облако». Заговорили все сразу. Особенно отчётливо помню, как понравились стихи Пастернаку, и как он играл потом что-то своё на рояле.
Новый, 16-й, год мы встретили очень весело. Квартирка у нас была крошечная, так что ёлку мы подвесили в угол под потолок (“вверх ногами”). Украсили её игральными картами, сделанными из бумаги — Жёлтой кофтой, Облаком в штанах. Все мы были ряженые: Василий Каменский раскрасил себе один ус, нарисовал на щеке птичку и обшил пиджак пёстрой набойкой. Маяковский обернул шею красным лоскутом, в руке деревянный, обшитый кумачом кастет. Брик в чалме, в узбекском халате, Шкловский в матроске. У Виктора Ховина вместо рубашки была надета афиша «Очарованного странника». Эльзе парикмахер соорудил на голове волосяную башню, а в самую верхушку этой башни мы воткнули высокое и тонкое перо, достающее до потолка. Я была в шотландской юбке, красные чулки, голые коленки и белый парик маркизы, а вместо лифа — цветастый русский платок. Остальные — чем чуднее, тем лучше! Чокались спиртом пополам с вишнёвым сиропом. Спирт достали из-под полы. Во время войны был сухой закон.
В этот вечер Каменский сделал Эльзе предложение руки и сердца — первое, полученное ею в жизни. Она удивилась и отказалась. Он посвятил ей стихотворение и с горя уехал жениться не то в Москву, не то на Каменку.
У Васи множество детей. Детей своих он очень любит. Пятилетний его сынишка играл с няней на Никитском бульваре в день открытия памятника Тимирязеву, и после речи Каменева тоже произнёс речь — строго сказал слушающим его детям:
— Я сын Давида Бурлюка, Владимира Маяковского и Василия Каменского, а вы тут все кто такие?
Пастернак привёл к нам Ч. Он выше Маяковского ростом, на лице постоянная гримаса, очень красивые руки и, странно, белый тафтовый галстук. Он художник, рисовал шарфы и халаты и продавал их в самые модные магазины. Я сыграла с ним в какие-то карты, и он выиграл какой-то пустяк. Он принёс мне орхидеи и развёл длинную философию на тот предмет, что при игре в карты один на один побеждает человек, внутренне правый. Я тут же решила это дело проверить, и мы стали играть в железку на марки. Через полчаса все марки были у меня, и он задолжал мне астрономическую сумму. Взволнованный, он снял с руки перстень и подарил его мне. Кольцо было чудесное, старинное, римское, витое, из червонного золота, а вместо камня барельеф — женщина с ребёнком — идеальной работы. Но Ч. человек сложный, он посидел, посидел, потом подошёл, посмотрел мне пристально в глаза и говорит:
— А вам всё равно, откуда это кольцо?
— Абсолютно.
— Даже если оно ворованное?
— Мне оно подарено вами.
— Так знайте, я украл его в Эрмитаже.
— Что ж, я так и скажу, если меня кто-нибудь спросит: его украл в Эрмитаже Ч.
Он рассказал мне длинную и совершенно неправдоподобную историю, как он украл его. Через какое-то время он попросил у меня кольцо обратно. Он опять длинно и туманно плёл, что я его достойна, он так любил меня, что чуть-чуть не повесился, а теперь видит — я существо аморальное и кольца не заслуживаю.
— Сделка не состоялась, верните задаток.
Уж эти мне снобы!
Володя его не выносил совершенно за туманные, импрессионистические непонятные разговоры. Когда Ч. уже почти не бывал у нас, Володя стал каждый день ездить к нему на Каменноостровский и обыгрывать в карты. Везло Володьке невероятно, и под конец он выиграл у него даже разрисованный шарф и принёс мне его как вражеский скальп. Очевидно, Ч. был внутренне очень не прав.
Мы завели огромный лист во всю стену (рулон), и каждый мог написать на нем всё, что в голову придёт. Володя про Кушнера: „Бегемот в реку шнырял, обалдев от Кушныря”, обо мне по поводу шубы, которую я собиралась заказать: „Я настаиваю, чтобы горностаевую”, про только что купленный фотоаппарат: „Мама рада, папа рад, что купили аппарат”. Я почему-то рисовала тогда на всех коробках и бумажках фантастических зверей с выменем. Один из них был увековечен на листе с надписью: „Что в вымени тебе моём?” Бурлюк рисовал небоскрёбы и трёхгрудых женщин, Каменский вырезал и наклеивал птиц из разноцветной бумаги, Шкловский писал афоризмы: „Раздражение на человечество накапкапливается по капле”.
Стали собирать первый номер журнала. Имя ему дали сразу «Взял». Володя давно уже жаждал назвать кого-нибудь этим именем: сына или собаку, назвали журнал. В журнал вошли: Маяковский, Хлебников, Брик, Пастернак, Асеев, Шкловский, Кушнер.
До знакомства с Маяковским Брик книг не издавал и к футуризму не имел никакого отношения. Он напечатал во «Взяле» небольшую рецензию на «Облако» под заглавием «Хлеба!»: „Бережней разрезайте страницы, чтобы, как голодный не теряет ни одной крошки, вы ни одной буквы не потеряли бы из этой книги — хлеба!”
Ося печатался в первый раз, и тогда же определился его стиль — простой и очень резкий. Когда Философов прочёл его статью, он пришёл к нам и изрёк:
— Единственный опытный журналист у вас — Брик…
Ося заважничал. Обложку журнала сделали из грубой обёрточной бумаги, а слово «Взял» набрали афишным шрифтом. При печатании деревянные буквы царапались об опилки в грубой бумаге, и чуть не на сотом уже экземпляре они стали получаться бледные, пёстрые. Пришлось от руки, кисточкой подправлять весь тираж.
Володя напечатал во «Взяле» первое стихотворение «Флейты-позвоночник». Писалась «Флейта» медленно, каждое стихотворение сопровождалось торжественным чтением вслух. Сначала стихотворение читалось мне, потом мне и Осе — и, наконец, всем остальным. Так было всю жизнь со всем, что Володя писал.
…Я обещала Володе каждое флейтино стихотворение слушать у него дома. К чаю было в гиперболическом количестве всё, что я люблю. На столе цветы, на Володе самый красивый галстук. Когда я в первый раз пришла к нему, на меня накинулась крошечная хозяйская собачонка, я страшно испугалась и никогда больше не видела, чтобы Володя так хохотал.
— Такая большая женщина испугалась такой капельной собачонки!
Володя научил меня любить животных. Позднее в Пушкине на даче мы нашли под забором дворняжьего щенка. Володя подобрал его, он был до того грязен, что Володя нёс его домой на вытянутой руке, чтобы не перескочили блохи. Дома мы его немедленно вымыли и напоили молоком до отвала. Живот стал такой толстый и тяжёлый, что щенок терял равновесие и валился набок. Володя назвал его Щен. Выросла огромная красивая дворняга. Зимой 1919 года, когда мы страшно голодали, Володя каждое утро ходил со Щенкой в мясную и покупал ему фунт конины, которая съедалась тут же около лавки. Щенке был год, когда он пропал, и разнесся слух, что его убили. Володя поклялся застрелить убийцу, если узнает его имя. Володя вспомнил добрым словом „собаку Щеника” во 2-й части «Хорошо».
В нашей совместной жизни постоянной темой разговора были животные. Когда я приходила откуда-нибудь домой, Володя всегда спрашивал, не видела ли я „каких-нибудь интересных собаков и кошков”. В письмах ко мне Володя часто писал о животных, а на картинках, которые рисовал мне во множестве, всегда изображал себя щенком, а меня кошкой (скорописью или в виде иллюстраций к описываемому). ‹...›
Володя говорил, что он любит животных за то, что они не люди, а всё-таки живые.
Вслед за «Флейтой» Володя написал стихотворение, никогда не печатавшееся: ‹...›
А за этим большая поэма «Дон-Жуан». Я не знала о том, что она пишется. Володя неожиданно прочёл мне её на ходу, на улице, наизусть — всю. Я рассердилась, что опять про любовь — как не надоело! Володя вырвал рукопись из кармана, разорвал в клочья и пустил по Жуковской улице по ветру. Думаю, что стихи эти были смонтированы из отходов «Флейты», уж очень они были похожи на неё.
Мы с Володей не расставались, ездили на острова, много шлялись по улицам. Володя наденет цилиндр, я — большую чёрную шляпу с перьями, и пойдём по предвечернему Невскому, например, за карандашом для Оси. Ещё светло, и будет светло всю ночь. Фонари горят, но не светят, как будто не зажжены, а всегда такие. Заходим в магазин, и Маяковский с таинственным видом обращается к продавщице:
— Мадемуазель, дайте нам, пожалуйста, дико-о-винный карандаш, чтобы он с одной стороны был красный, а с другой, вообразите себе, синий!
Мадемуазель шарахается, а я в восторге.
Ночами гуляли по набережной. В темноте казалось, что пароходы не дымят, а только снопами выбрасывают искры. Володя сказал:
— Они не смеют дымить в вашем присутствии.
Маяковский задумал прочесть доклад о футуризме.
Для этой цели выбрали самую большую из знакомых квартир — художницы Любавиной, позвали всех: Горького, Кульбина, Матюшина. Володя несколько дней готовился, ходил „размозолев от брожения” и записывал доклад как стихи.
Народу собралось человек тридцать, расселись. Володя ждал в соседней комнате, как за кулисами. Всё затихло, и перед публикой появился оратор. Он стал в позу и произнёс слишком громко: „Милостивые государи и милостивые государыни”, все улыбнулись, Володя выкрикнул несколько громящих фраз, умолк, чуть не заплакал и ушёл из комнаты.
Сгоряча он не рассчитал, что соберутся друзья, что орать не на кого и не за что, что придется делать доклад в небольшой комнате, а не агитировать на площади. Его успокаивали, утешали, поили чаем. Совсем он был ещё тогда щенок, да и внешностью ужасно походил на щенка: огромные лапы и голова, — и по улицам носился, задрав хвост, и лаял зря, на кого попало, и страшно вилял хвостом, когда провинится. Мы его так и прозвали Щеном, — он даже в телеграммах подписывался Счен, а в заграничных Schen. Телеграфисты недоумевали, и почти на каждой его телеграмме есть служебная приписка: „да — счен, верно — счен, странно — счен”.
Стали собираться, разговаривать, докладывать. Чаще всего у нас, иногда у Любавиной, у Кульбина. К Кульбину ходило страшно много народу. В большой комнате на стене висел большой плакат: «Жажду одиночества» — и меня мучили угрызения совести, когда я там бывала. Один из первых докладов у Кульбина делал Шкловский. Помню, говорил, между прочим, о том, что в современной литературе появилось много провинциализмов, а после доклада Хлебников заметил ему, что римляне называли провинциями завоеванные области, а следовательно, в отношении Киева провинцией является Петербург, а не наоборот. Замечание это очень характерно для Вити. Знания Хлебникова были точными.
Как-то Ося пришёл домой сконфуженный. Он ехал с Хлебниковым на трамвае, и на Вите была широкая шуба и высокая шапка. Осе он показался похожим на старовера, а Витя помолчал и спросил с расстановкой:
— А какого… толка?..
— Старообрядцы все бородатые, а я бритый.
У Хлебникова никогда не было ни копейки, одна смена белья, брюки рваные, вместо подушки наволочка, набитая рукописями. Где он жил — не знаю. Пришёл он к нам как-то зимой в летнем пальто, синий от холода.
Мы сели с ним на извозчика и поехали в магазин Манделя (готовое платье) покупать шубу. Он все перемерил и выбрал старомодную, фасонистую, на вате, со скунсовым воротником шалью.
Я выдала ему три рубля на шапку и пошла по своим делам, а Вите велела, как только купит, идти к нам на Жуковскую. Вместо шапки он купил, конечно, разноцветных бумажных салфеток в японском магазине, на все деньги, не удержался, уж очень понравились в окне на выставке.
Писал Хлебников непрерывно и написанное, говорят, запихивал в наволочку и терял.
Бурлюк ходил за ним и подбирал, но много рукописей всё-таки пропало. Корректуру за него всегда делал кто-нибудь, боялись дать ему в руки — обязательно перепишет наново. Читать свои вещи вслух ему было скучно. Он начинал и в середине стихотворения часто говорил — и так далее… Но очень бывал рад, когда его печатали, хотя никогда ничего для этого не делал. Говорил он мало, но всегда интересно. Любил, когда Маяковский читал свои стихи, и слушал внимательно, как никто. Часто глубоко задумывался, тогда рот его раскрывался и был виден язык, голубые глаза останавливались. Он хорошо смеялся, пофыркивал, глаза загорались и как будто ждали: а ну ещё, ещё что-нибудь смешное. Я никогда не слыхала от него пустого слова, он не врал, не кривлялся, и я была убеждена, да и сейчас убеждена в его гениальности.
В первом, “лицейском” периоде Маяковского история его взаимоотношений с Хлебниковым представляет огромный интерес, даже если думать, что Маяковский по-рыцарски преувеличивал его роль в своем творчестве.
Мне кажется, Маяковский сумел перешагнуть через стадию ученичества. Может быть, оттого, что он много думал об искусстве, прежде чем начал делать его, он сразу выступил как мастер. Отчасти помог ему в этом Бурлюк. До знакомства с ним Маяковский был мало образован в искусстве. Бурлюк рассказывал ему о различных течениях в живописи и литературе, о том, что представляют собой эти течения. Читал ему в подлинниках, попутно переводя, таких поэтов, как Рембо, Рильке. Но даже в первых стихах Маяковского не видно влияния ни этих поэтов, ни Бурлюка, ни Хлебникова. Если искать чье-то влияние, то скорее влияние Блока, который в то время, несмотря на контрагитацию Бурлюка, продолжал оставаться кумиром Маяковского. С первых поэтических шагов Маяковский сам стал влиять на окружающую поэзию. И сильнейшим из футуристов сразу сделался Маяковский.
Бурлюк как-то сказал Маяковскому, что он только тогда признает его маститым, когда у него выйдет том стихов, такой толстый, что длинная его фамилия поместится поперёк переплётного корешка.
Когда вышло «Простое как мычание», я переплела его роскошно, в коричневую кожу, и поперёк корешка было, правда, очень мелкими, но разборчивыми золотыми буквами вытиснено: Маяковский.
Мы любили тогда только стихи. Пили их, как пьяницы, думали о том, кем, когда и как они делались и делаются.
Я знала все Володины стихи наизусть, а Ося совсем влип в них. С этого времени и начались так называемые „козявки”. Козявками я называла значки, которыми Ося расписывал тетради. Из них выяснились потом звуковые повторы. Работал Ося с утра и до вечера. Я не понимаю, как он ухитрялся в крошечной квартирке среди непрерывного шума. Много крепче были тогда нервы.
А как сделаны стихи Пушкина? Почему гениальные? Как разгадать их загадку? И Осип Максимович без конца „развинчивал” Пушкина, Лермонтова, Языкова, исписывал стопы бумаги значками, из которых потом выявились „звуковые повторы”.
После „звуковых повторов” он стал работать над „ритмико-синтаксическими фигурами”. Пошли разговоры с Якобсоном, Шкловским, Якубинским, Поливановым.
Якубинский преподавал тогда русскую литературу в кадетском корпусе, и я думаю, что его влияние на кадет было очень велико, хотя для начальства и незаметно. Такой он с виду хорошенький, аккуратненький, хорошо воспитанный.
Поливанов был профессором Петербургского университета. Никто не знал, где он потерял руку. Он долго жил в Китае и прекрасно владеет японским и китайским языками. В первые же дни революции он вступил в коммунистическую партию и организовал петроградских и московских китайцев.
К нам стало ходить такое количество народа, что квартира стала мала. В том же доме, пониже, освободилась огромная, в шесть комнат. Мы переехали туда без всякой мебели. Одну комнату назвали библиотекой, — у Оси, по обыкновению, накопилось страшное количество книг, — другую танцевальной. Ещё в верхней квартире я затеяла учиться танцам, настоящей балетной классике, и в танцевальной комнате была приделана к стене длинная палка, а у противоположной стены поставлено зеркало, и каждое утро у нас был форменный танцкласс в пачках и балетных туфлях.
Филологи собирались у нас. Разобрали темы, написали статьи. Статьи читались вслух, обсуждались. Брик издал первый «Сборник по теории поэтического языка».
Интересно, что в обоих опоязовских сборниках нет ни одной цитаты из стихов Маяковского, ни одной ссылки на них, только один раз мимоходом упомянуто имя Маяковского. Опоязовцы, несмотря на любовь к его стихам, в своих исследованиях ещё не прикасались к ним.
Маяковский мог часами слушать разговоры опоязовцев. Он не переставал спрашивать Осипа Максимовича: „Ну как? Нашёл что-нибудь? Что ещё нашёл?” Заставлял рассказывать о каждом новом примере. По утрам Владимир Владимирович просыпался раньше всех и в нетерпении ходил мимо двери Осипа Максимовича. Если оказывалось, что он уже не спит, а, лежа в постели, читает или разыгрывает партию по шахматному журналу, В.В. требовал, чтобы он немедленно шёл завтракать. Самовар кипел, Владимир Владимирович заготавливал порцию бутербродов, читались и обсуждались сегодняшние газеты и журналы. Когда Осип Максимович работал над литературой 40-х годов, Владимир Владимирович просил, чтобы он докладывал ему обо всех „последних новостях 40-х годов” или же о чём-нибудь другом, чем Осип Максимович занимался в это время.
Утренний завтрак был любимым временем Владимира Владимировича: никто не мешал, голова была свежая после ночного отдыха. По утрам он всегда был в хорошем настроении. Так начинался каждый наш день долгие годы.
Осип Максимович делился с В.В. всем прочитанным. У Владимира Владимировича почти не оставалось времени для чтения, но интересовало его всё, а Осип Максимович рассказывал всегда интересно. Часто во время этих разговоров Владимир Владимирович подходил к Осипу Максимовичу и целовал его в голову, приговаривая: „Дай поцелую тебя в лысинку”.
Маяковский был человеком огромной нежности. Грубость и цинизм он ненавидел в людях. За всю нашу совместную жизнь он ни разу не повысил голоса ни по отношению ко мне, ни к Осипу Максимовичу, ни к домашней работнице. Другое дело — полемическая резкость. Не надо их путать.
Весной 1918 года, когда Маяковский снимался в Москве в кинофильме, я получила от него письмо:
„На лето хотелось бы сняться с тобой в кино. Сделал бы для тебя сценарий”.
Сценарий этот был «Закованная фильмой». Писал он его серьёзно, с увлечением, как лучшие свои стихи.
Бесконечно обидно, что он не сохранился. Не сохранился и фильм, по которому можно было бы его восстановить. Мучительно, что я не могу вспомнить название страны, которую едет искать Художник, герой фильма. Помню, что он видит на улице плакат, с которого исчезла Она — Сердце Кино, после того как Киночеловек — этакий гофманский персонаж — снова завлек её из реального мира в киноплёнку. Присмотревшись внизу, в уголке плаката, к напечатанному петитом слову, Художник с трудом разбирает название фантастической страны, где живет та, которую он потерял. Слово это вроде слова ‘Любландия’. Оно так нравилось нам тогда! Вспомнить я его не могу, как нельзя иногда вспомнить счастливый сон.
После «Закованной фильмой» поехали в Левашово, под Петроград. Сняли три комнаты с пансионом.
Там Маяковский написал «Мистерию-буфф».
Он весь день гулял, писал пейзажи, спрашивал, делает ли успехи в живописи.
Пейзажи маленькие, одинакового размера — величины этюдника. Изумрудные поляны, окружённые синими елями. Они лежали потом, свёрнутые в трубку, в квартире на улице Жуковского и остались там — пропали вместе с книгами и мебелью, когда мы переехали в Москву.
По вечерам играли в карты, в “короля”, на “позоры”. Составили таблицу проигрышей.
Столько-то проигранных очков — звать снизу уборщицу; больше очков — мыть бритву; ещё больше — жука ловить (найти красивого жука и принести домой); ещё больше — идти за газетами на станцию в дождь.
Играли на мелок, и часто одному кому-нибудь приходилось несколько дней подряд мыть бритву, ловить жуков, бегать за газетами во всякую погоду.
Кормили каждый день солёной рыбой с сушёным горошком. Хлеб и сахар привозила из города домработница Поля. Поля пекла хлеб в металлических коробках из-под бормановского печенья «Жорж» — ржаной, заварной, вкусный.
За табльдотом Маяковский сидел в конце длинного стола. А в другом конце сидела пышная блондинка. Когда блондинка уехала, на её место посадили некрасивую худую старую деву. Маяковский взялся было за ложку, но поднял глаза и испуганно пробормотал:
— Где стол был яств, там гроб стоит.
Ходили за грибами. Грибов много, но одни сыроежки, зато красивые, разноцветные. Отдавали на кухню жарить.
Между пейзажами, “королём”, едой и грибами Маяковский читал нам только что написанные строчки «Мистерии». Читал весело, легко. Радовались каждому отрывку, привыкали к вещи, а в конце лета неожиданно оказалось, что «Мистерия-буфф» написана, и что мы знаем её наизусть.
Известно, что Маяковский не прекращал работу даже на людях — на улице, в ресторане, за картами, везде. Но он любил тишину, наслаждался ею — и тогда, в Левашове, и потом, в Пушкине, когда часами бродил по лесу. Ему работалось легче, он меньше уставал, чем в прославленном “шуме города”.
Осенью надо было возвращаться в город, а платить за пансион нечем. Продали художнику Бродскому мой портрет, написанный Борисом Григорьевым в 16-м году, огромный, больше натуральной величины. Я лежу на траве, а сзади что-то вроде зарева. Маяковский называл этот портрет «Лиля в разливе».
Осенью, после Левашова, Маяковский снял на улице Жуковского маленькую квартиру на одной лестнице с нами. Ванна за недостатком места — в коридоре. В спальне — тахта и большое зеркало в розовой бархатной раме, одолженное у знакомых.
Мейерхольд и Маяковский взялись за постановку «Мистерии». Маяковский сам играл “Человека просто”, а когда в день премьеры заболели несколько актёров, сыграл и их роли. Меня взяли помрежем, и я учила актёров читать стихи хором.
О том, как ставилась «Мистерия», много и подробно писали, не буду на этом останавливаться.
На репетициях Маяковскому нравилось, что актёры говорят сочинённые им слова, и что актёров много, и ему казалось, что все здорово играют.
Он был бесконечно благодарен за то, что им занимаются.
Привыкли думать, что Маяковский самоуверен. Его публичные выступления были спокойны и безапелляционны потому, что он твёрдо знал, что именно должен делать, а не потому, что думал — он делает всё так уж хорошо.
Во время постановок Маяковский и Мейерхольд бывали влюблены друг в друга. Маяковский восторженно принимал каждое распоряжение Мейерхольда, Мейерхольд — каждое предложение Маяковского. Пожалуй, они этим мешали друг другу. Забегая вперёд, приведу строчки из последнего письма Маяковского: „Третьего дня была премьера «Бани». Мне, за исключением деталей, понравилась, по-моему, первая поставленная моя вещь”.
Я видела этот спектакль уже после смерти Маяковского. Постановка мне не понравилась. Текст не доходил. Хороши были скорее именно детали. «Баня», мне кажется, была поставлена хуже «Мистерии» и «Клопа». Но гений Мейерхольда ослеплял Маяковского. А гений Маяковского мешал Мейерхольду проявлять себя. Они слепо верили друг в друга. У них было общее дело — искусство. Мейерхольд делал новый театр, Маяковский — новую поэзию.
В 1919 году, в голодные дни, я переписала старательно от руки «Флейту-позвоночник», Маяковский нарисовал к ней обложку. На обложке мы написали примерно так: „В. Маяковский. «Флейта-позвоночник». Поэма. Посвящается Л.Ю. Брик. Переписала Л. Брик. Обложка В. Маяковского”. Маяковский отнёс эту книжечку в какой-то магазин на комиссию, её тут же купил кто-то, и мы два дня обедали.
Летом сняли дачу в Пушкине, под Москвой. Адрес: 27 вёрст по Ярославской ж.д., Акулова гора, дача Румянцевой. Избушка на курьих ножках, почти без сада, но терраса выходила на большой луг, направо — полный грибов лес. Кругом ни домов, ни людей. Было голодно. Питались одними грибами. На закуску — маринованные грибы, суп грибной, иногда пирог из ржаной муки с грибной начинкой. На второе — вареные грибы, жарить было не на чем, масло в редкость.
Каждый вечер садились на лавку перед домом смотреть закат.
В следующее лето в Пушкине было написано «Солнце».
Утром Маяковский ездил в Москву, на работу в РОСТА. В поезде он стоял у окна с записной книжкой в руке или с листом бумаги; бормотал и записывал заданный себе урок — столько-то стихотворных строк для плакатов РОСТА.
В 1919 году Маяковский увидел на Кузнецком «Окно сатиры РОСТА» и пошёл к заведующему РОСТА П.М. Керженцеву.
В РОСТА работал художник Мих.Мих. Черемных. Он и придумал делать такие “окна”. Керженцев отослал Маяковского к Черемных. Сговорились, и вместо одного фельетона или стихотворения и иллюстраций к ним, как делали раньше, стали делать на каждом плакате по нескольку рисунков с подписями.
Производство разрослось. Черемных назначили заведующим отделом плаката «Окон РОСТА». За два с половиной года открыли отделения во многих городах. Стали работать почти все сколько-нибудь советски настроенные художники. Запосещали иностранцы. Японцы через переводчика спрашивали, кто тут Маяковский, и почтительно смотрели снизу вверх.
Как-то Керженцев привёл человека: вот, американец, интересуется.
Маяковского не было, я раскрашивала то, что он мне доверил, Черемных и Малютин, работая, громко переговаривались в таком стиле:
— Ходят тут, околачиваются, работать мешают. До чего я этих американцев не терплю. Ни уха ни рыла в искусстве не понимают, а туда же, интересуются. Эй ты, американец, смотри — это Ллойд Джордж.
Кивает.
— А вот это Клемансо. Понял?
Кивает.
Черемных пошёл к Керженцеву: уберите от нас этого немого, мы с ним сговориться не можем.
— Отчего? Он же прекрасно говорит по-русски. Это Джон Рид.
Черемных — к Малютину, шепчет на ухо. Малютин произносит медовым голосом что-то вроде:
— Вы, американцы, кажется, мало интересуетесь искусством?
И Джон Рид на чистейшем русском языке отвечает, что лично он очень интересуется искусством, особенно советским…
Работали беспрерывно. Черемных жил близко и часто рисовал дома. Мы вдвоём с Маяковским поздно оставались в помещении РОСТА, и к телефону подходил Маяковский.
Звонок:
— Кто у вас есть?
— Никого.
— Заведующий здесь?
— Нет.
— А кто его замещает?
— Никто.
— Значит, нет никого? Совсем?
— Совсем никого.
— Здорово!
— А кто говорит?
— Ленин.
Трубка повешена. Маяковский долго не мог опомниться.
Этот разговор я помню, вероятно, дословно, столько раз Маяковский тогда рассказывал об этом.
Работали весело. Керженцев любил нас и радовался каждому удачному “окну”.
Для рисования нам давали рулоны бракованной газетной бумаги. Обрезали и подклеивали ободранные края. Удобно! Ошибёшься — и заклеишь, вместо того чтобы стирать.
Техника такая: Маяковский делал рисунок углём, я раскрашивала его, а он заканчивал — наводил глянец. В большой комнате было холодно. Топили буржуйку старыми газетами и разогревали поминутно застывающие краски и клей. Маяковский писал десятки стихотворных тем в день. Отдыхали мало, и один раз ночью он даже подложил полено под голову, чтобы не разоспаться. Черемных рисовал до 50 плакатов в сутки. Иногда от усталости он засыпал над рисунком и утверждал, что, когда просыпался, плакат оказывался дорисованным по инерции. Днём Маяковский и Черемных устраивали “бега”. Нарезали каждый 12 листов бумаги и по данному мной знаку бросались на них с углём, наперегонки, по часам на Сухаревой башне. Они были видны в окно.
Количество рисунков на плакате одного “окна РОСТА” было от двух до шестнадцати.
Художественный отдел — на особом финансовом положении. Натиск со стороны художников такой, что заведующий финчастью ставил мальчика у дверей своего кабинета, чтобы предупреждал об их пришествии. Когда мальчик видел приближающихся гуськом Маяковского, Черемных и Малютина, он орал истошным голосом: „Художники идут!” — и заведующий успевал улизнуть в другую дверь.
Каждая перемена ставок шла через Союз. Маяковский и Черемных носили туда образцы плакатов. Выбирали кажущиеся самыми сложными. Например, фабрика со множеством окон. По правде говоря, они были самые простые и рисовали их молниеносно, по линейке, крест-накрест. Но вид весьма эффектный, внушительный. Художники спрашивали: ну, как, по-вашему, сколько времени надо, чтобы сделать такой плакат?
— Дня три.
— Что вы! Окон одних сколько, ведь каждое нарисовать надо!
Была в нашем отделе и ревизия. Постановили, что Черемных — футурист и надо его немедленно уволить. Маяковского в этом не заподозрили! Он горячо отстаивал Черемных и отстоял.
Количество художников всё прибывало, хотя отбор был строгий, и не только по признакам художественности. Один, например, принёс очень недурно нарисованного красноармейца с четырёхконечной звездой на шапке. Маяковский возмутился, заиздевался, и художник этот был изгнан с позором.
Размножались “окна” трафаретным способом, от руки. В первую очередь трафареты посылались в самые отдалённые пункты страны. Следующие — в более близкие. Оригинал висел в Москве на следующий день после события, к которому относилась тема. Через две недели “окна” висели по всему Союзу. Быстрота, тогда неслыханная даже для литографии.
Вслед за РОСТА мы стали получать заказы от ПУРа, транспортников, МКХ („Береги трамвай”), Наркомздрава („Прививай оспу!”, „Не пей сырой воды!”), горняков.
Когда горняки принимали первые плакаты «Делайте предложения», им не понравилось, что рабочие красные, „будто в крови”. Маяковский спросил:
— А в какой же их цвет красить, по-вашему?
— Ну в чёрный, например.
— А вы тогда скажете — “будто в саже”.
Приняли красных.
Педагоги заказали азбуку. Черемных попробовал нарисовать два “окна”; им не понравилось, что азбука “политическая”, и заказ аннулировали.
Умирание наше началось, когда отдел перевели в Главполитпросвет и заработали лито-, цинко- и типографии. Дали сначала две недели ликвидационные, потом ещё две недели, а вскоре и совсем прикрыли.
Лирические стихи, написанные этим “ростинским” летом в Пушкине, Маяковский сочинял, гуляя по вечерам вдоль лесной опушки и где-то на дачных улицах.
Недалеко от домика Румянцевой в настоящей большой даче жили две сестры-дачницы. Обе хорошенькие. И на той же, кажется, улице — красивая рыженькая девушка. О младшей из сестёр и о рыженькой написаны «Отношение к барышне» и «Гейнеобразное». Маяковский собирался написать цикл таких стихов, но пора было уезжать.
В Пушкине написана «Схема смеха». Ежедневно там проходил курьерский поезд, и к нему ходили торговать „бабы с молоком” и „мужики с бараниной”.
Маяковский без конца с выражением пел «Схему смеха» на какой-то собирательный мотив, который я и сейчас помню:
Мы несколько раз проводили лето в Пушкине.
Не помню, почему я оказалась в Берлине раньше Маяковского. Помню только, что очень ждала его там. Мечтала, как мы будем вместе осматривать чудеса искусства и техники.
Поселились в «Курфюрстен-отеле», где потом всегда останавливался Маяковский, когда бывал в Берлине.
Но посмотреть удалось мало.
У Маяковского было несколько выступлений, а остальное время… Подвернулся карточный партнёр, русский, и Маяковский дни и ночи сидел в номере гостиницы и играл с ним в покер. Выходил, чтобы заказать мне цветы — корзины такого размера, что они с трудом пролезали в двери, или букеты, которые он покупал вместе с вазами, в которых они стояли в витрине цветочного магазина. Немецкая марка тогда ничего не стоила, и мы с нашими деньгами неожиданно оказались богачами.
Утром кофе пили у себя, а обедать и ужинать ходили в самый дорогой ресторан «Хорхер», изысканно поесть и угостить товарищей, которые случайно оказывались в Берлине. Маяковский платил за всех, я стеснялась этого, мне казалось, что он похож на купца или мецената. Герр Хорхер и кельнер называли его „герр Маяковски”, старались всячески угодить богатому клиенту, и кельнер, не выказывая удивления, подавал ему на сладкое пять порций дыни или компота, которые дома в сытые, конечно, времена Маяковский привык есть в неограниченном количестве. В первый раз, когда мы пришли к Хорхеру и каждый заказал себе после обеда какой-нибудь десерт, Маяковский произнес:
— Их фюнф порцьон мелоне и фюнф порцьон компот. Их бин эйн руссишер дихтер, бекант им руссишем ланд, мне меньше нельзя.
Из Берлина Маяковский ездил тогда в Париж по приглашению Дягилева. Через неделю он вернулся, и началось то же самое.
Так мы прожили два месяца. Вернувшись в Москву, Маяковский вскоре объявил два своих выступления. Первое: «Что Берлин?» Второе: «Что Париж?» (Кажется, так они назывались на афише.)
В день выступления — конная милиция у входа в Политехнический. Маяковский пошёл туда раньше, а я — к началу. Он обещал встретить меня внизу. Прихожу — его нет. Бежал от несметного количества не доставших билета, которых уже некуда ни посадить, ни даже поставить. Обо мне предупредил в контроле, но к контролю не прорваться. Кто-то как-то меня протащил.
В зале давка. Публика усаживается по два человека на одно место. Сидят в проходах на ступенях и на эстраде, свесив ноги. На эстраде — в глубине и по бокам — поставлены стулья для знакомых.
Под гром аплодисментов вышел Маяковский и начал рассказывать — с чужих слов. Сначала я слушала, недоумевая и огорчаясь. Потом стала прерывать его обидными, но, казалось мне, справедливыми замечаниями.
Я сидела, стиснутая на эстраде. Маяковский испуганно на меня косился. Комсомольцы, мальчики и девочки, тоже сидевшие на эстраде, свесив ноги, и слушавшие, боясь пропустить слово. Возмущённо и тщетно пытались остановить меня. Вот, должно быть, думали они, буржуйка, не ходила бы на Маяковского, если ни черта не понимает… Так они приблизительно и выражались.
В перерыве Маяковский ничего не сказал мне. Но Долидзе, устроитель этих выступлений, весь антракт умолял меня не скандалить. После перерыва он не выпустил меня из артистической. Да я и сама уже не стремилась в зал. Дома никак не могла уснуть от огорчения. Напилась веронала и проспала до завтрашнего обеда.
Маяковский пришел обедать расстроенный, мрачный.
— Пойдёшь завтра на его вечер?
— Нет, конечно.
— Что ж, не выступать?
— Как хочешь.
Маяковский не отменил выступления.
На следующее утро звонят друзья, знакомые: почему вас не было? не больна ли? Не могли добиться толку от Владимира Владимировича… Он мрачный какой-то… Жаль, что не были… Так интересно было, такой успех…
Маяковский чернее тучи.
Длинный был у нас разговор, молодой, тяжкий.
Оба мы плакали. Казалось, гибнем. Всё кончено. Ко всему привыкли — к любви, к искусству, к революции. Привыкли друг к другу, к тому, что обуты-одеты, живём в тепле. То и дело чай пьём. Мы тонем в быту. Мы на дне. Маяковский ничего настоящего уже никогда не напишет…
Такие разговоры часто бывали у нас последнее время и ни к чему не приводили. Но сейчас, ещё ночью, я решила — расстанемся хоть месяца на два. Подумаем о том, как же нам теперь жить.
Маяковский как будто даже обрадовался этому выходу из безвыходного положения. Сказал:
— Сегодня 28 декабря. Значит, 28 февраля увидимся, — и ушёл.
‹...›
Два месяца провёл Маяковский в своей добровольной тюрьме. Он просидел два месяца добросовестно, ничего себе не прощая и ни в чём себя не обманывая. Ходил под моими окнами. Передавал через домработницу Аннушку письма, записки („записочную рябь”) и рисуночки. Это было единственное, что он позволял себе, — несколько грустных или шутливых слов “на волю”, но и в этом он как бы оправдывался. ‹...›
Впереди была цель — кончить поэму, встретиться, жить вместе по-новому. Он писал день и ночь, писал болью, разлукой, острым отвращением к обывательщине, к «Острову мёртвых» в декадентской рамочке, к благодушному чаепитию, к себе — как тогда казалось, погрязшему во всём этом ‹...›
28 февраля в 3 часа дня кончался срок нашей разлуки, а поезд в Ленинград отходил в 8 вечера.
Приехав на вокзал, я не нашла его на перроне. Он ждал на ступеньках вагона.
Как только поезд тронулся, Володя, прислонившись к двери, прочёл мне поэму «Про это». Прочёл и облегчённо расплакался…
В Сокольниках у нас было три комнаты. Одна — большая, в ней стоял молчаливый рояль и бильярд, на котором много играли. Когда переезжали в Гендриков, Владимир Владимирович подарил этот бильярд своему знакомому, харьковчанину Фуреру, для харьковского рабочего клуба.
В Сокольниках умерла наша собака Скотик, скочтерьер. Я привезла его из Англии в Берлин, где в это время был Маяковский, и из Берлина мы вместе везли его в Москву. Из Сокольников Владимир Владимирович уезжал в Америку. Мы собирались поехать вместе, но я только что встала после перитонита и даже не могла проводить его на вокзал.
Мы никогда не снимали подаренные друг другу еще в петербургские времена вместо обручальных кольца-печатки. ‹...› Когда советские люди перестали носить золотые украшения, Маяковскому стали присылать во время выступлений записки: „Тов. Маяковский! Кольцо вам не к лицу”. Он отвечал, что потому и носит его не в ноздре, а на пальце, но записки учащались, и чтоб не расставаться с кольцом, пришлось надеть его на связку с ключами.
В тот вечер, когда он из Сокольников уезжал в Америку, он оставил ключи дома и только на вокзале вспомнил, что с ключами оставил и кольцо. Рискуя опоздать на поезд и просрочить визы, он бросился домой, а тогда с передвижением было трудно — извозчики, трамваи… Но уехать без кольца — плохая примета. Он нырял за ним в Пушкино на дно речное. В Ленинграде уронил его ночью в снег на Троицком мосту, долго искал и нашёл. Оно всегда возвращалось к нему.
Кроме моего кольца, был у него еще один амулет — старый серебряный отцовский портсигар. В нём рамка для фотографии, и Володя вставил в неё наше с ним фото 15-го года. Иногда он носил его в кармане, но в него влезало мало папирос, и поэтому он чаще лежал в ящике письменного стола.
После Володиной смерти, в день шестидесятилетия Всеволода Мейерхольда, я подарила ему этот портсигар вместе с фотографией. Он был рад подарку — он помнил этот портсигар у Володи.
Жить в Сокольниках было далеко и трудно — без ванны, ледяная уборная. Володя стал хлопотать о квартире в Москве.
После долгих хождений он получил ордер на квартиру в Гендриковом переулке, но она была так запущена, что въехать немыслимо. С потолка свисали клочья грязной бумаги, под рваными обоями жили клопы, а занять её надо было немедленно, чтобы кто-нибудь не перехватил под покровом ночи. С жильём было тогда сложно. И вот Осип Максимович и приятель наш, художник Левин, взяли по пустому чемодану и “въехали”, то есть провели две-три ночи без сна, сидя на этих чемоданах. В очередь с ними дежурили Владимир Владимирович и Асеев — до утра играли в 66, пока нашли рабочих и начали ремонт. Квартиру всю перестроили, даже выкроили крошечную ванную комнату, словом, привели её в такой приблизительно вид, в каком находятся сейчас комната Маяковского, столовая и передняя, только отопления центрального не было, его сделали, когда жилую квартиру превратили в музей.
Но эта часть вместо целого дает неверное представление о домашнем быте Маяковского. Тогда это были — столовая и три одинаковые комнаты-каюты.
Только в моей был поменьше письменный стол и побольше платяной шкаф, а в комнате Осипа Максимовича находились все, такие нужные и Маяковскому, книги. Ванна, которой мы так долго были лишены и которую теперь горячо любили. Удивительно, что Владимир Владимирович помещался в ней, так она была мала. “Своя кухня”, крошечная, но полная жизни. Лестница — сейчас “музейная”, а тогда на холодной площадке, на которую выходила дверь из соседней квартиры и стояли два грубо сколоченных, запертых висячими замками шкафа. В них были книги, не умещавшиеся в квартире. Не было теперешнего красивого сада и забора вокруг. Было несколько деревьев и дровяные сараи для всех жильцов. Снесены жалкие домишки, видневшиеся из наших окон.
Словом, всё так, да не так… Следы запутаны…
| Передвижная Выставка современного изобразительного искусства им. В.В. Каменского | ||
| карта сайта | 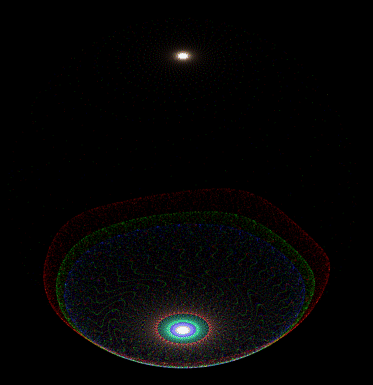 | главная страница |
| исследования | свидетельства | |
| сказания | устав | |
| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||