

 огда я слышу упоминание о Хлебникове, меня охватывают сложные чувства. Тут и грусть о мелькнувшем на моем пути человеке, особенном, решительно отличном во всем от других, и злость на себя, на свою собственную молодую глупость, неумение отличить зерно от половы, драгоценный камень от подделки, и сожаление о судьбе поэта, для которого жизнь была суровой мачехой.
огда я слышу упоминание о Хлебникове, меня охватывают сложные чувства. Тут и грусть о мелькнувшем на моем пути человеке, особенном, решительно отличном во всем от других, и злость на себя, на свою собственную молодую глупость, неумение отличить зерно от половы, драгоценный камень от подделки, и сожаление о судьбе поэта, для которого жизнь была суровой мачехой.Между прочим этот “приличный дядя“ меня и пристроил на нары к незнакомому солдату.
— Будешь спать рядом с Володей. Чудак-парень, а душа-человек.
Мой сосед заговорил со мной так, словно знал меня много лет. Спросил, как жилось в Киеве, чем занимался, где учился, что читал из прозы, поэзии. Вопросы сыпались один за другим. Кажется, он обрадовался возможности поговорить на интересующие его темы. Когда мы замолкали, к нам доносились разговоры соседей. Бывшие деревенские жители (их в бараке было большинство) вели бесконечные беседы о коровах, об урожае картофеля — обо всём том, что было мило их сердцам, от чего их насильно оторвали.
— Вот, брат, примечай, — обращал мое внимание сосед. — Заговорят о бычке и способны толковать о нём час, два и больше, учись, как надо обыгрывать тему.
Я спросил, чем он занимался в мирной жизни.
— Да так, вроде ничем. Бумагу марал.
— А как ваша фамилия?
Мне неудобно было звать такого взрослого приятеля на “ты“. Вообще же все “божьи ратники“ обращались друг к другу только на “ты“.
— Хлебников. Подписывался Велемир Хлебников. Слыхал? Это здесь окрестили Володей.
— Понятия не имею.
— Святая темнота! Бурлюка знаешь, Маяковского?
— Знаю. Приезжали в Киев. Видел.
— Я из той же компании. Ты их читал?
— Не пришлось.
Он задумался. Вероятно, удивлялся, что есть на свете молодые люди, не знающие новой поэзии.
Я присматривался к нему. Незаметный какой-то, хотя и высокий, от худобы невзрачен. Лицо из тех, что не запоминаются с первого взгляда. Когда разговаривает, то сразу меняется, оживают глаза, не может усидеть на месте, размахивает руками.
Я попросил, чтоб он прочел что-нибудь своё. Он декламировал наизусть многие строчки — и свои, и друзей. Воспитанный на классической русской поэзии, я слушал его чтение довольно равнодушно.
Дня через два-три мы были уже друзьями. Наступал длинный казарменный вечер. Мы забирались на свою “верхотуру“, и начинались часы словотворчества. Конечно, я не мог угнаться за моим новым другом, пассивно слушал его необычные словечки, не в силах добавить что-то своё. Позже старался следовать за ним и, кажется, начал чуть-чуть успевать. Велемир не оставил, например, того бычка, о котором говорили деревенские новобранцы.
— Бычок... Быця... Бычуся... Бычик... Видишь, какие богатейшие возможности таятся в языке.
Я добавлял:
— Бычуны, Бычушка... — больше ничего придумать не мог. Мой сосед продолжал:
— Нет, твой бычушка не подходит, режет ухо, смахивает на “чушку“. А вот бычуха, бычина, бычише...
Велемир после некоторого молчания спрашивает:
— Как зовут твоих сестёр?
— Женя, Аня, Валя.
Он пустился в долгие исследования:
— Женя... Жека... Жеха... Жешка... Вторая — Аня? Здесь просто: Анка, Анчка, Анюня, Нюня, Нюся, Нюшенька — выбирай любое.
Однажды он мне пояснил, как произошло моё имя.
— Григорий... Григор... Игор... Понимаешь, вначале был Игорь, стал Григорь и, наконец, Григорий.
Следы велемировой науки остались; и теперь моих сестёр так и зову: Жека, Жешка, Анчка.
Как-то днём я узнал моего “чудака“ с неизвестной для меня стороны. После “словесности“ (заучивания имён царской семьи), перед обедом, мы с ним убирали казарму. Он сообщил, что начальство наше в трепете: ожидается приезд самого главного, грозного начальника — генерал-губернатора Казанского военного округа Сандецкого. Саратовские части были в его подчинении. Ни один приезд не обходился без суровых наказаний всех, не угодивших ему.
Например, в 1916 году он отдал строгий приказ, чтобы солдаты находились только на территории своего полка. Тогда и был поставлен проволочный забор между 90 и 91-м полками. На территории последнего находилась уборная. Ею всегда пользовались солдаты обоих полков. Теперь же без пропуска с нашей стороны нельзя было туда пройти...
— Вот это, брат ты мой, самое страшное в наших условиях: такой горлопан, балбес, дубина, дубчак держит в руках судьбы десятков тысяч. Есть для таких болванов одно слово, которое для них страшнее всякой грозы. Оно не нуждается в производных — революция.
Приезд Сандецкого мы сразу же почувствовали на себе. Наши добрые начальники превратились в свирепых тиранов. Бесконечные уборки казарм и территории вокруг них, проверка солдатской формы, где всё должно быть “без сучка и задоринки“, как приказал ротный командир, усиленные занятия “словесностью“, маршировка с винтовками в руках, без перчаток, несмотря на вьюгу, — всё это дергало, изнывало до такой степени, что мы спали потом, как убитые; часто не хватало силы, чтобы поужинать.
Велемира в строй не гоняли. Он числился вольноопределяющимся, намеченным к переводу в учебную команду, где спешно готовили прапорщиков. Всё же и для него хватало немало работы — оставался дневальным в казарме. Его специально муштровали, учили, как надо держаться и отвечать, если высшее начальство вздумает сюда зайти. Такие репетиции, по его словам, делали дня три подряд по нескольку часов.
Наступал вечер, а с ним и радость встречи с жалкой солдатской постелью.
— Обалдел, Гришуня, до последней степени, — жаловался Хлебников, опуская голову на подушку, туго набитую соломой. — Именно балда... Прогулял лето, провозился со стихами, не позаботился, чтобы засесть в какой-то части хотя бы писарем, если не считают меня больным.
Полусонный, он твердил:
— Балда, балда... Да... Да... Лда... Лда… Балда... Лалдаба... Лаладба...
Страсть к словотворчеству не могла заглушить никакая усталость.
Утром, заранее дрожа от холода при мысли, что скоро с винтовкой буду маршировать на площадке за лагерем, я сказал моему другу:
— Как я завидую вам: ваша винтовка останется в пирамиде.
— Я, брат, поклялся, что в руки её не возьму. За что воевать? За эту проволоку, что разделяет два полка, за грубородного Сандецкого, за дурдурана Николая?
Эпитеты мне понравились. Только не cpазу уразумел, как понимать “грубородный“. На мой вопрос Хлебников ответил:
— Очень просто: есть люди благородные и грубородные.
К нашей тощей солдатской радости, мы узнали через несколько дней, что гроза миновала: Сандецкий не пожелал видеть 90-й полк. Опять сократились занятия.
Упоительны для нас были воскресенья. Отдых, лишний бачок каши, возможность беседовать весь день, никакой “словесности“ — вот он, бесценный подарок один paз в неделю.
Рано утром в лагерь приходило много торговок с молоком, пирогами, блинами и прочими завидными снедями. Я, большой любитель пирогов, сразу же уходил на торг, звал с собой Велемира.
Помню, как-то потребовалась мелкая монета, чтобы рассчитаться с моей пирожницей. Друг вынул груду денег, всю протягивает мне. Я говорю, что столько не надо. Он смотрит непонимающе, машинально берёт обратно, суёт в карман... Взгляд его прикован к какой-то молодухе в ярко-жёлтом платке. Выглянуло солнце, бодрое, морозное. Платок гипнотизирует ещё сильнее своей желтизной. Велемир, не мигая, безмолвно застыл. Зову идти есть пироги — не слышит. Трудно сказать, сколько бы он простоял без движения, если бы женщина оставалась на месте. Но она быстро распродала товар, взглянула в упор на Велемира, сверкнула улыбкой и ушла за ворота.
Мы вернулись в казарму. Я начал читать одну из книг, взятую у него, кажется, стихи Божидара. А мой безмолвный сосед прилёг на подушку и заговорил про себя:
— Краснощёка... Плотоока... Желтоплата.. Желтоока...
Я не долго скитался в дебрях божидаровой премудрости. Достал из своего чемоданчика книгу Льва Толстого. В ней оказалась театральная программа. Незадолго до моего призыва я побывал в киевской опере на двух гастролях известной балерины Кшесинской. Программу её выступлений нашёл теперь в книге. Три четверти первой страницы на прекрасной плотной бумаге занимал удачно выполненный фотопортрет красавицы-артистки. Его заметил Хлебников:
— Ты был на её выступлениях? Интересно. Бывшая возлюбленная его величества. Вся в прыжках и милом порхании. Вот и напрыгала целый дворец. Расскажи, как она выглядит, как танцевала, как прошли вечера.
Я видел — это не простое любопытство. Он что-то хотел услышать от меня, может быть, подтверждающее его мысли, а возможно, искал в моём рассказе какие-то малые зёрна, чтобы оформить стихи-строчки... Я вспоминал:
— Присутствовала, конечно, местная знать. Все понимали, что Кшесинская — не просто балерина. Перед началом выступлений оркестр исполнял «Славянский марш» Чайковского. Танцевала великолепно. Восхищали грация, красота, влюблённость в свое искусство. Недаром в молодости царь потерял сердце и покой.
— Говорят, она после него ещё имела многих царственных поклонников.
— Неужто? Совсем не знал. Можете себе представить, как я поразился, когда услышал из разговора соседей по креслам, что ей лет сорок пять, не меньше, а может, и все пятьдесят. В антракте помчался за кулисы, хорошо знакомые мне. Хотя на этот раз было строже обычного, все же сторож, приятель моего отца, пропустил. Ищу её уборную. Дверь открыта, внутри и перед дверью — толпа поклонников. Пристроился к ним. Разговаривала она со всеми попросту, шутила... Раздался звонок. Чтобы вежливо отправить поклонников, она подарила каждому свою карточку.
— Ну, а ты что? Достал?
— Получил последним. Стою, не могу и слова вытянуть из себя. Только слышу: “Какой молоденький!..“ Хорошо, хоть догадался руку поцеловать.
— Больше не видал?
— Нет. На другой день меня не пустили. Набралось много господ поважнее.
— Хорошо и так. Имеешь понятие, что такое Матильда Феликсовна.
Через много лет я узнал, что он посвятил ей несколько строчек и, кажется, больше ни о ком из артистов не писал.
К сожалению, жил я с Велемиром рядышком только месяц. Его взяли в учебную команду. Мы встречались теперь реже. Меня ежедневно гоняли на строевые занятия. Команды “бег на месте“, “бег вперёд“ изматывали до последней степени. Вечно преследовало одно желание — забраться поскорей на нары, забыть обо всём на свете.
И вот в одну из таких томительных ночей пришло нежданно-негаданно потрясающее известие: в России революция. Та самая революция, которая, по мнению Велемира, не нуждается в производных словах.
Мы стали встречаться ежедневно. С каким наслаждением приняли участие в уничтожении ненавистной перегородки между нашими полками! По вечерам уходили в город.
Слушали вместе «Евгения Онегина», «Демона», «Дубровского». В театре драмы гремела запрещённая прежде пьеса Протопопова «Чёрные вороны». Так сладостно было слушать и смотреть, как по сцене бродили “святые отцы“ без ореола. И всё это дала чудесная “свобода-душка, свобо-душка, свободунька“, как декламировал Хлебников. Мы три раза подряд лицезрели «Чёрных воронов», только тогда немного утолили жажду. Правда, Велемир как-то сказал:
— Театры меня особенно не привлекают. Но хочется подышать воздухом городской свободы после нашей казармы-тюряги.
Один эпизод особенно запомнился. Обычно мы возвращались ночью кратким путём — через кладбище. Пройдя затем мимо небольшой рощи, попадали к своим казармам. Однажды возвращение было очень трудным. Разгулялась последняя и самая злая мартовская метель. Дорогу нашу замело, и мы в полной тьме не раз натыкались на железные кресты и ограды. Вскоре потеряли друг друга Я упёрся в какое-то надгробье; показалось, что мертвец запустил мне в шею свои негнущиеся руки-когти. Ору во всё горло: “Велемир!“ Бью по “когтям“; оказалось, что это всего лишь оледенелые ветки. На минуту ураган затихает. Слушаю с надеждой, как сторож вычванивает в церкви двенадцать ударов. Кричу снова: “Велемир!“ — и тут же слышу ответ: “Гришук“. Оказалось, он совсем близко от меня, и не только не боится ничего, но ещё и смеется:
— Ну, Гришака, посмотрел я, как ты “метал икру“. Мертвецов испугался? Они люди тихие. Чертовщины вообще никакой нет, её выдумали трусишки...
Недолго продолжались наши блаженные дни: началась подготовка к отправлению на фронт. Меня впервые стали учить стрелять боевыми патронами. Первый же выстрел чуть не стал трагическим: пуля свернула далеко в сторону, на каких-то два-три сантиметра от ротного командира. Он вырвал у меня винтовку, собираясь влепить пощёчину, но сдержался: не то время. Отправил в казарму, пообещав отдать под суд. Винтовку отобрали.
Пришла весна, ранняя, ласковая, именно такая, какая нужна была в дни революционного подъёма, когда всё вокруг бурлило Велемир нашел способ бывать со мной чаще. В учебной команде, похоже, убедились, что офицера из него не выйдет. Оснований для этого было вполне достаточно. Чего стоил хотя бы такой случай. Однажды, когда Велемир собирался есть французскую булку, в помещение вошел офицер. Наш воин-поэт отдал ему честь... булкой.
Он очень любил вдыхать запах сосновых почек, обязательно срывал одну-другую, тер в руке, подносил к носу. Мы укладывались на тёплом песке в голых ещё кустах рощи, долго смотрели в прохладно-голубое небо. Вот тогда именно я услышал от него полюбившиеся мне строчки:
Хороши были эти весенние облака! Когда они закрыли солнце, стало прохладно, и мы ушли домой — в казарму. Хлеба было вдоволь, а молоко торговки приносили в лагерь каждое утро и продавали по недорогой цене.
Помню, как-то раз я сделал Велемиру замечание, что его стихи вычурны и во многом непонятны мне. В то же время музыку стихов моего солдатского друга чувствую. Неужели он не может написать какое-то душевное стихотворение простым, доступным языком? Он очень скоро написал, а потом прочёл мне:
Каких только словообразований не наслушался я от своею оригинального друга! Сам же много рассказывал ему об украинском театре. Его увлекало звучание украинской речи. Он с наслаждением смаковал такие слова, как “запаска“ (юбка), “очипок“ (чепец), “халява“ (голенище), “цуцик“ (собачка) и другие, звучащие, по его опредлению, “экзотически-вкусно“.
Вскоре я попал на комиссию. Специалист-глазник сразу же написал мне полное увольнение: нашел сильную близорукость На радостях иду к Велемиру. На этот раз моего друга я не нашёл. Кто-то из команды с сожалением объявил:
— Володя с ума сошёл. Отправили в больницу.
Так закончились мои встречи с замечательным стихотворцем. Пошли трудные времена. Народ на полях сражений творил свою новую историю, пробивал путь к социализму.
С течением времени я забыл о своём редкостном друге. Только в 24 году узнал, что он умер. А в 30-х годах услышал от В.В. Каменского, как Велемир удачно изобразил из себя сумасшедшего и получил полное освобождение от военной службы.
Много лет прошло с тех пор. Мне удалось прочесть почти всё написанное им и о нём. И тут я понял, насколько это был большой художник. Но в моем представлении навечно остался хмуро-ласковый, непрактичный в жизни, большой ребёнок, капризный и милый в своей наивности, неизменный в уважении к простым людям, бесконечно влюблённый в звучание родного слова.
И я рад, что хотя на малое время прикоснулся к этой чистой душе.
| Передвижная Выставка современного изобразительного искусства им. В.В. Каменского | ||
| карта сайта | 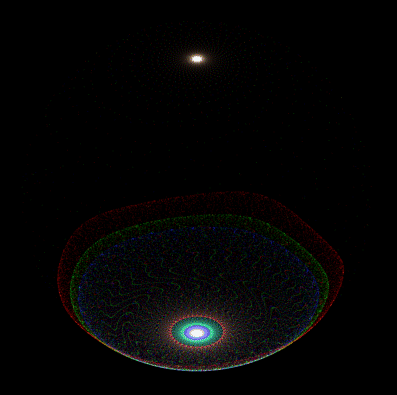 | главная страница |
| исследования | свидетельства | |
| сказания | устав | |
| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||