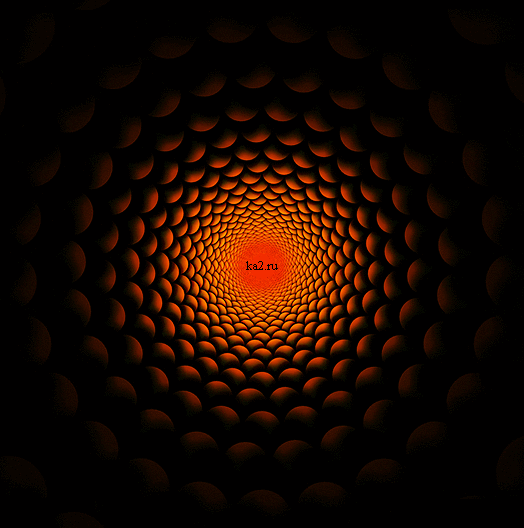Тихон Чурилин
Встречи на моей дороге1
По всей видимости, Чурилин предполагал написать развёрнутые воспоминания, куда бы вошёл и очерк о его дореволюционной жизни, и литературные мемуары. Об этом свидетельствует то, что незавершённый, черновой, фрагмент о детстве, начале самостоятельной жизни и раннем творчестве поэта в рукописи имеет общее название с воспоминаниями о В. Маяковском и В. Хлебникове — «Встречи на моей дороге».
Позднее он отказался от идеи многоаспектных мемуаров и ограничился только повествованием о футуристах, свою общность с которыми постоянно подчёркивал. В этом смысле совсем не случайны тема неприятия символизма, проходящая через его мемуарные тексты, и попытки задним числом скорректировать свою литературную позицию в ранний период творчества. Таким образом, воспоминания о Хлебникове и Маяковском, подготовленные автором для публикации, должны были ещё раз обозначить его “истоки” и “учителей в поэзии”.
Самый ранний набросок литературных мемуаров в виде развёрнутого плана под названием «Маяковский (встречи и отношения и т.д.)»,
2
судя по авторской датировке, относится к 8 июня 1934. Можно предположить, что изначально это был конспект устного выступления.
3
Этот фрагмент вошёл в основной текст практически без изменений.
Сохранился и предварительный набросок воспоминаний о Хлебникове, который впоследствии был не только расширен, но подвергся значительной авторской правке.
4
Воспоминания о Н.Н. Асееве предположительно должны были составить отдельную главу, но не были окончены.
Сохранился также черновой набросок начатых воспоминаний о поэте и переводчике Я.М. Лебедеве «О друге, товарище, поэте» (Л. 1-4), фрагменты которого использованы в комментариях к настоящему очерку.
Чистовик литературных мемуаров о футуристах хранится в отделе рукописей Музея Маяковского в Москве и представляет собой отредактированный вариант более обширных черновиков из личного архива Т.В. Чурилина в РГАЛИ,
5
которые взяты за основу этой публикации. Из окончательного текста автором были исключены некоторые отрывки, вероятно, по цензурным соображениям.
Все тексты публикуются с максимальным сохранением особенностей авторского правописания и пунктуации. Авторские конъектуры раскрыты в угловых скобках. Вычеркнутые слова помещены в квадратные скобки.
Наталия Яковлева
* * *
Москва. Октябрь-сентябрь 1940
Хлебников
Вспомянем старые годы, бывшие когда-то — ослепительно новыми для нас. Я начинал свою поэтическую дорогу в Москве. В 1912 году дружил с художниками М. Ларионовым, Н. Гончаровой,6 когда у меня уже была половина стихов моей первой книги «Весна после смерти». Ужасно было неловко, когда Ларионов в кафе знакомил меня с Якуловым Жоржем,7
когда у меня уже была половина стихов моей первой книги «Весна после смерти». Ужасно было неловко, когда Ларионов в кафе знакомил меня с Якуловым Жоржем,7 и говорил: „Это великолепный поэт — Чурилин”.
и говорил: „Это великолепный поэт — Чурилин”.
На вечерах, вечериночках, у Ларионова и Гончаровой впервые я встретился с Велемиром8 и с Кручёных. Как свежий и насущный, только испечённый хлеб из новины, помню этот вечер — в Москву приехал из Киева молодой поэт В. Эльснер,9
и с Кручёных. Как свежий и насущный, только испечённый хлеб из новины, помню этот вечер — в Москву приехал из Киева молодой поэт В. Эльснер,9 стал издаваться у Кожебаткина в «Альционе»,10
стал издаваться у Кожебаткина в «Альционе»,10 и начал бывать у Ларионова-Гончаровой в Большом Палашовском,11
и начал бывать у Ларионова-Гончаровой в Большом Палашовском,11 где появлялся всякий раз в новом пиджачном-брючном оформлении и с непременным распусканием павлиньего хвоста. Мы над ним очень смеялись — но терпели для забавы, а он льнул к художникам, своих книжонок ради, — для иллюстраций и украшения.
где появлялся всякий раз в новом пиджачном-брючном оформлении и с непременным распусканием павлиньего хвоста. Мы над ним очень смеялись — но терпели для забавы, а он льнул к художникам, своих книжонок ради, — для иллюстраций и украшения.
В один вечер в марте, кажется, 1913 года собрались мы на вечериночку в Большой Палашовский. Давали чай крепкий, в разно-фарфоровых чашках, а также и в глиняных каких-то; Михаил Фёдорович (Ларионов) притащил живой сыр, лимбуржский, который, говорят, шевелился, а уж пах он — всенародно, площадно. Был Павел Кузнецов,12 Шевченко,13
Шевченко,13 Татлин, С. Бобров, вдруг явился Эльснер — опять в новом хвосте, палевом с подпалинами! И стал распускать язык — тоже павлиньим хвостом. Бобров, этот злой и неглупый фокстерьер, стал вгрызаться в хвост — и от него полетели и перья и пух.14
Татлин, С. Бобров, вдруг явился Эльснер — опять в новом хвосте, палевом с подпалинами! И стал распускать язык — тоже павлиньим хвостом. Бобров, этот злой и неглупый фокстерьер, стал вгрызаться в хвост — и от него полетели и перья и пух.14 Ларионов давил мою ногу — ножищей, тыкал мне больно под рёбра кулаком — словом, жил и наслаждался! Вдруг из дверей вошли Хлебников и Кручёных. И стало всё по-иному: так — да не так, а вот как.
Ларионов давил мою ногу — ножищей, тыкал мне больно под рёбра кулаком — словом, жил и наслаждался! Вдруг из дверей вошли Хлебников и Кручёных. И стало всё по-иному: так — да не так, а вот как.
Хлебников привлекал внимание всех, кто его видел в первый раз — не странностями, которые ему приписывали всю его жизнь, а значительностью и красотой его тогдашнего вида. Он тогда был очень молод — начинал студенческие годы в Ленинграде ‹так!›.15 Замечательна была его голова — волосы, которые я и сейчас не могу обыденно определить: рыжевато-каштановые, темные, чёрные, не густо, не сине? Глаза — синие или серые? До сих пор не знаю верно. Лицо — очень красивое, свежее тогда, не румяное, но розово-жёлто-матовое. Сутул — а строен, средний рост — а высок, как радиомачта на крышах Пулково. Гончарова, Наталья Сергеевна, которая на мужчин и внимания не обращала, а приходящих эстетных женщинок и совсем недолюбливала — глаз от Велемира не могла оторвать весь вечер. А он пришёл, сел в угол и промолчал там на все разговоры и на всё округ — всё время.
Замечательна была его голова — волосы, которые я и сейчас не могу обыденно определить: рыжевато-каштановые, темные, чёрные, не густо, не сине? Глаза — синие или серые? До сих пор не знаю верно. Лицо — очень красивое, свежее тогда, не румяное, но розово-жёлто-матовое. Сутул — а строен, средний рост — а высок, как радиомачта на крышах Пулково. Гончарова, Наталья Сергеевна, которая на мужчин и внимания не обращала, а приходящих эстетных женщинок и совсем недолюбливала — глаз от Велемира не могла оторвать весь вечер. А он пришёл, сел в угол и промолчал там на все разговоры и на всё округ — всё время.
А Кручёных — говорил, и от его слов полетели перья и пух и от Эльснера и от Боброва, и оба они, павлин и фокстерьер, — завяли и не рыпались больше. Ларионов и я — ликовали, давили друг другу ноги и рёбра, ухали и крякали, а смеялись все хором — и Наталья Сергеевна, которая вообще не смеялась много или сильно — тоже подхохатывала весело, охотно. Так в ту вечериночку был разделан под орех символячий молодняк, хотя Бобров и вольничал и либеральничал в духе начинавшегося нового — а на самом деле был символяком закадычной ‹так!›.
Кручёных и Хлебников тогда издавали литографским способом тоненькие ярые боевые книжки с рисунками Ларионова–Гончаровой. Это были: «Игра в аду», «Взял» и ещё не помню что.16
Потом встреча с Хлебниковым была у него на дому. Жил он на Садовой, где не помню — помню пустую светлую комнату — стены сосновые неоштукатуренные, чистые, на столе, покрытом скатертью, чернила и перо, бумага. Хлебников сидел за столом и думал, смотрел прямо перед собой своими неизвестного до сих пор мне цвета глазами. Я пришёл к нему — звать его в «Свободную Эстетику» и собрание эстетов-символистов в
Литературно-Худ‹ожественный› кружок,17 он хотел идти, послушать и посмотреть Брюсова — тогда он интересовался им.
он хотел идти, послушать и посмотреть Брюсова — тогда он интересовался им.
Мы поговорили о Брюсове — он хотел узнать его поближе, поговорить, м‹ожет› б‹ыть›, прочесть свои стихи. А потом — оказалось, что вход в Свободную Эстетику стоил рубль — а для членов или поэтов — 50 к‹опеек›. У меня не было ни копейки, у Велемира — ровно полтинник. Тогда он встал, вынул серебро — и отдал мне, сказав: идите вы, я подожду. Я отказался, т.к. знал, что Велемиру очень хотелось побывать у Эстетов, я же много раз там бывал.18
Таким Хлебников был и оставался всю жизнь. Он отдавал последнее другому: деньги, хлеб, рубашку, платье. Этого не забудешь никогда и нигде.
Третья встреча в этом году была уже у меня на дому. Жил я на теперешней Каляевской улице, в Подвесках, близ Бутырской тюрьмы, снимал мерзкую мансарду у виноторговца, оказавшегося товарищем председателя районного союза русского народа. Это мне было на руку, т.к. полиция этот дом не трогала,19 а виноторговец, не зная моих убеждений, питал ко мне, молодому писателю, род недуга,20
а виноторговец, не зная моих убеждений, питал ко мне, молодому писателю, род недуга,20 симпатию. Я пользовался гостиной внизу, когда ко мне приходили “гости”. Вот я и позвал к себе дорогого гостя Велемира с Кручёных (они были неразлучными тогда) — и молодежь: моего приятеля Ивана Николаевича Кротова, студента-технолога,21
симпатию. Я пользовался гостиной внизу, когда ко мне приходили “гости”. Вот я и позвал к себе дорогого гостя Велемира с Кручёных (они были неразлучными тогда) — и молодежь: моего приятеля Ивана Николаевича Кротова, студента-технолога,21 О.Ф. Гнесину,22
О.Ф. Гнесину,22 тогда молодую пианистку-педагога, двоюродную сестру свою Катю Л.23
тогда молодую пианистку-педагога, двоюродную сестру свою Катю Л.23 и её подругу, медичку Зину.24
и её подругу, медичку Зину.24 Иван Николаевич дал мне 25 р‹ублей›, я купил два торта, чаю, сахар, конфеты, фрукты — стол, пиршественный стол-триклиниум.
Иван Николаевич дал мне 25 р‹ублей›, я купил два торта, чаю, сахар, конфеты, фрукты — стол, пиршественный стол-триклиниум.
Собрались “гости”, молодежь, стали пить чай, разливала Зина, хозяйничала за столом. Вот, наконец, вошли Хлебников и Кручёных. Принесли они свеженькие, как хлеб из печки, 2 книжки свои «Игра в аду», «Взял» и др‹угие›. Молодежь робко глядела странные книжонки, особенно протестантски отнеслась — Ольга Гнесина, она была консервативна, хоть дружила с Ларионовым и Гончаровой.
Я — веселился, книжки мне нравились, рисунки тоже, хоть я ногами всё ещё стоял в топком и мягком суглинке символизма.25 Вот тут за чаепитием выказалась одна особенность Велемира — его равнодушие к быту и чаю. Он сам оказался центром внимания у девушек — все они заговаривали с ним, ластились взглядом, глядели на него безотрывно. Боюсь, что не в стихах тут была сила. А он сидел как всегда чудный — и будто никого и не видел, хотя вежливо изредка отвечал: „Да. Да”. И пил чай. Выпил стакан — Зина налила и подала ему ещё. Выпил второй. Зина подвинула ещё 3-ий, Велемир выпил и его, Зина налила 4-ый — и подала. Велемир выпил и его. Зина в ужасе наливает 5-ый. Велемир также тотчас быстро пьет и его. Зина, красная от конфуза, неизвестно какого, подвигает шестой — и я, видя всё это, понимал, что Хлебников не знает счёту стаканам — это не числа досок судьбы,26
Вот тут за чаепитием выказалась одна особенность Велемира — его равнодушие к быту и чаю. Он сам оказался центром внимания у девушек — все они заговаривали с ним, ластились взглядом, глядели на него безотрывно. Боюсь, что не в стихах тут была сила. А он сидел как всегда чудный — и будто никого и не видел, хотя вежливо изредка отвечал: „Да. Да”. И пил чай. Выпил стакан — Зина налила и подала ему ещё. Выпил второй. Зина подвинула ещё 3-ий, Велемир выпил и его, Зина налила 4-ый — и подала. Велемир выпил и его. Зина в ужасе наливает 5-ый. Велемир также тотчас быстро пьет и его. Зина, красная от конфуза, неизвестно какого, подвигает шестой — и я, видя всё это, понимал, что Хлебников не знает счёту стаканам — это не числа досок судьбы,26 — быстро сталкиваю его из-за стола — все смеются. Зина, счастливая концом конфуза, смеялась громче всех, и инцидент был вычерпан.27
— быстро сталкиваю его из-за стола — все смеются. Зина, счастливая концом конфуза, смеялась громче всех, и инцидент был вычерпан.27
А Кручёных озорничал, дразнил Гнесину, говорил острые козери28 и бесстыдно съел весь оставшийся торт до конца и ещё бесстыднее, ясно демонстративно, громко спросил: „А нет ли ещё какого-нибудь торта?” Его немедленно возненавидели девушки все три — а мне и Кротову это нравилось, и мы всячески поддерживали Кручёных. Потом Гнесина играла Шопена, а Кручёных мешал, он топал ногами невпопад и не в такт, что привело в ярость пианистку.29
и бесстыдно съел весь оставшийся торт до конца и ещё бесстыднее, ясно демонстративно, громко спросил: „А нет ли ещё какого-нибудь торта?” Его немедленно возненавидели девушки все три — а мне и Кротову это нравилось, и мы всячески поддерживали Кручёных. Потом Гнесина играла Шопена, а Кручёных мешал, он топал ногами невпопад и не в такт, что привело в ярость пианистку.29 Было очень весело и ещё веселее мы пошли провожать Велемира до его дома. И как архиерея девушки вели его под руки, а он шёл, изредка поддакивая: „Да. Да. Да”. От чего было ещё задушевнее и веселее.
Было очень весело и ещё веселее мы пошли провожать Велемира до его дома. И как архиерея девушки вели его под руки, а он шёл, изредка поддакивая: „Да. Да. Да”. От чего было ещё задушевнее и веселее.
Ещё встретились мы в 1916 году, когда уже год как вышла моя «Весна», и я стал сразу действительно поэтом, да ещё каким: «Кикапу» поэтом.30 Был апрель, весна, около меня тогда была разномастная поэтная компания: Шманкевичи 1-ый и 2-ой,31
Был апрель, весна, около меня тогда была разномастная поэтная компания: Шманкевичи 1-ый и 2-ой,31 Глоба,32
Глоба,32 Цветаева, Парнок,33
Цветаева, Парнок,33 Мандельштам, Ландау,34
Мандельштам, Ландау,34 Куфтин35
Куфтин35 (он и Шманкевичи — почитатели Хлебникова), а потом ко мне пристал и не разлучался некое время поэт и режиссёр Самуил Вермель,36
(он и Шманкевичи — почитатели Хлебникова), а потом ко мне пристал и не разлучался некое время поэт и режиссёр Самуил Вермель,36 с которым мы выпускали журнал «Московские мастера», где почётно печатались Асеев, Хлебников и я. А к Хлебникову прилип полипом Митрей Петровский,37
с которым мы выпускали журнал «Московские мастера», где почётно печатались Асеев, Хлебников и я. А к Хлебникову прилип полипом Митрей Петровский,37 цербером не отпускавший Хлебникова от себя.
цербером не отпускавший Хлебникова от себя.
И вот сидел я раз у Вермеля в его “Башне” на Мясницкой, тут же были Шманкевичи и Куфтин. Позвонили Вермелю, и он торжественно объявил, что к нему едет Хлебников. И, да: из дверей вышли Митрей Петровский, а с ним одетый в новенькую сюртучную пару и в зелёном пульверонезном38 галстухе — Велемир. Торжественный Самвермель объявил: Прошу встать перед королем поэтов — Велемиром Хлебниковым! Шманкевичи вспрыгнули и закричали, Куфтин всей рыжей длинной бородой — сиял и лучился, как осень на солнце, а я встал, чтобы поздороваться с Велемиром, — я его уже крепко любил тогда.
галстухе — Велемир. Торжественный Самвермель объявил: Прошу встать перед королем поэтов — Велемиром Хлебниковым! Шманкевичи вспрыгнули и закричали, Куфтин всей рыжей длинной бородой — сиял и лучился, как осень на солнце, а я встал, чтобы поздороваться с Велемиром, — я его уже крепко любил тогда.
Велемир принял это шутовство Самвермеля просто, но доподлинно — с достоинством суверена. Сел глубоко в кресло — и точно запал в него. И стал читать стихи глухо, как капли воды из крана понемногу. Но все — и шуты, и мы с Куфтиным слушали, затаив всё в себе — так было это велико и прекрасно необыкновенно.
Следующие встречи с Велемиром бывали у меня в кафе «Сиу» на Кузнецком мосту, где тогда бывали поэты: Цветаева, Парнок, Мандельштам, Самвермель. Бывал и Хлебников с Митрием Петровским. И в кафе, как у себя в комнате, он сидел, глядя вперёд своими замечательными глазами, думая всё время о числах и словах, об их побегах — и во времени и в языке, отзывался своим глухим коротким дадаканьем: Да. Да. Да. Да. Все попытки чужих ему поэтов ввести его в разговор были тщетны, зато со своими он говорил охотно и порой страстно, только опять-таки тон речи был сухой, глухой как бы из-за солнечной пустыни — а мысль бродила, пела, бежала, летела страстно.
И, наконец, помню его приход ко мне в 1916 году. Я занимал большой номер в «Северном Полюсе» на тогдашней Большой Никитской, против консерватории. В этот его приход у меня сидели Шманкевичи, Куфтин, потом пришедший Самвермель. Вошёл Велемир с Митрием Петровским, его фактотумом,39 который водил его на цепи якобы преданности и “дружбы”.
который водил его на цепи якобы преданности и “дружбы”.
Разговор шёл в ту минуту о Маяковском. Последыши символистов, вернее, “около-проходя-спустя”, Шманкевичи и наивный большой ребёнок из Уэльсовой «Пищи богов»40 Куфтин (тогда бывший молодым учёным-антропологом и этнографом) Маяковского “не принимали”. Шманкевичи лаяли его, как разъярённые собачки мелкого роста, — Куфтин, серьёзно всё принимавший к поэтическому любвеобильному сердцу, был слеп и глух, и Маяковского не мог ни видеть, ни слышать — был к нему тугоухим. А я, увы мне тогда, ещё не продирал тоже глаз как щенок — слепой кутенок — на него, поэтому мы все его “отрицали”. Я особенно нападал на известное: „Эй, вы, небо, — снимите шляпу!”.41
Куфтин (тогда бывший молодым учёным-антропологом и этнографом) Маяковского “не принимали”. Шманкевичи лаяли его, как разъярённые собачки мелкого роста, — Куфтин, серьёзно всё принимавший к поэтическому любвеобильному сердцу, был слеп и глух, и Маяковского не мог ни видеть, ни слышать — был к нему тугоухим. А я, увы мне тогда, ещё не продирал тоже глаз как щенок — слепой кутенок — на него, поэтому мы все его “отрицали”. Я особенно нападал на известное: „Эй, вы, небо, — снимите шляпу!”.41 Я квалифицировал этот выпад, как хулиганство и позу актера для эффекта.
Я квалифицировал этот выпад, как хулиганство и позу актера для эффекта.
Велемир слушал зорко и остро всё, вдруг стал говорить мне: „Нет. Вы не видите его — он громадный, да. Он — поэт огромный, да. Таких ещё не было, да, нет таких ещё у нас, да. И нигде — нет”. И замолк в протесте глухом и сухом в речи, и страстном — в сути защиты Маяковского.
Он видел-слышал-ценил и любил Маяковского и уже тогда знал его удельный вес и кубатуру его великого дела.
Последняя встреча моя с Велемиром была в том же 1916 году в марте месяце, у писателя Горбова,42 бывшего тогда ещё студентом и писавшего стишки. Собралось слушать мою пиесу «Последний визит»,43
бывшего тогда ещё студентом и писавшего стишки. Собралось слушать мою пиесу «Последний визит»,43 интересовавшую тогда не один Камерный театр, а и тогдашнюю литературную среду, — большое литературное общество. Тут были: С. Парнок, М. Цветаева, О. Мандельштам, Ландау, Б. Зайцев, Б. Грифцов,44
интересовавшую тогда не один Камерный театр, а и тогдашнюю литературную среду, — большое литературное общество. Тут были: С. Парнок, М. Цветаева, О. Мандельштам, Ландау, Б. Зайцев, Б. Грифцов,44 критик П. Ярцев,45
критик П. Ярцев,45 молодой тогда писатель Виктор Мозалевский,46
молодой тогда писатель Виктор Мозалевский,46 “Президиум” Камерного театра — А.Я. Таиров,47
“Президиум” Камерного театра — А.Я. Таиров,47 А.Г. Коонен48
А.Г. Коонен48 и Володя Соколов,49
и Володя Соколов,49 талантливый режиссёр Камерного, актеры и актрисы оттуда (пиеса была тогда принята театром), поэт А. Глоба,50
талантливый режиссёр Камерного, актеры и актрисы оттуда (пиеса была тогда принята театром), поэт А. Глоба,50 Шманкевичи, Е.В. Гельцер51
Шманкевичи, Е.В. Гельцер51 и ещё много. Велемир вошёл с Митрием Петровским, когда я только начал 1-‹ю› картину. Велемир остро и чутко слушал всё чтение и, когда кончилось, подошёл ко мне и сказал только: „Да. Это — значительно. Очень. Страшно. Хорошо”, — и ушёл, не оставшись на ужин. Больше я его не видел никогда.
и ещё много. Велемир вошёл с Митрием Петровским, когда я только начал 1-‹ю› картину. Велемир остро и чутко слушал всё чтение и, когда кончилось, подошёл ко мне и сказал только: „Да. Это — значительно. Очень. Страшно. Хорошо”, — и ушёл, не оставшись на ужин. Больше я его не видел никогда.
Говорят, он меня не любил тогда, верил в разную легендарную чушь, что крутилась, как пыль, около меня тогда, — но книгу стихов моих «Льву — Барс»52 он взял с собой в последнюю поездку в Сантолово,53
он взял с собой в последнюю поездку в Сантолово,53 читал её и говорил Н.К. Митурич,54
читал её и говорил Н.К. Митурич,54 у которой жил тогда, что это — замечательная, настоящая книга. Она в числе очень немногих книг была с ним до самой смерти там же в Сантолове. Этого я тоже никогда не забуду, особенно потому, что в это же время началась моя новая поэтическая жизнь и дело — учёба у Хлебникова, который дал много жизни для моего творчества, много движения и ввёл меня наконец в Единство песенного размера,55
у которой жил тогда, что это — замечательная, настоящая книга. Она в числе очень немногих книг была с ним до самой смерти там же в Сантолове. Этого я тоже никогда не забуду, особенно потому, что в это же время началась моя новая поэтическая жизнь и дело — учёба у Хлебникова, который дал много жизни для моего творчества, много движения и ввёл меня наконец в Единство песенного размера,55 т.е. в то русло, откуда вытекли такие реки, как: Маяковский, Асеев, Пастернак, Петников,56
т.е. в то русло, откуда вытекли такие реки, как: Маяковский, Асеев, Пастернак, Петников,56 Божидар и наконец — и я.
Божидар и наконец — и я.
‹В дальнейшем ходе этих воспоминаний я дам подробное описание поэтического учительского влияния творчества Хлебникова на его замечательных собратьев-современников: Маяковского, Асеева, Пастернака, Петникова, Божидара,57 а также и на себя самого — Тихона Чурилина. Bcя эта стая певчих и боевых птиц побывала в великом гнезде Велемира. И он, птица певчая, питал всех их, — нас. Но вылетев из гнезда и выучившись петь — каждая птица запела своим голосом. Об этих голосах поэзии, новой молодой поэзии 20 века, так называемого “русского футуризма”, я и упомяну в их особенностях, ладах, манерах, певе. Наиболее полно напишу о своем поэтическом голосе — как этот голос в перекличках с другими набирал свои силы, креп — и наконец стал своим голосом.58
а также и на себя самого — Тихона Чурилина. Bcя эта стая певчих и боевых птиц побывала в великом гнезде Велемира. И он, птица певчая, питал всех их, — нас. Но вылетев из гнезда и выучившись петь — каждая птица запела своим голосом. Об этих голосах поэзии, новой молодой поэзии 20 века, так называемого “русского футуризма”, я и упомяну в их особенностях, ладах, манерах, певе. Наиболее полно напишу о своем поэтическом голосе — как этот голос в перекличках с другими набирал свои силы, креп — и наконец стал своим голосом.58 ›
›
МАЯКОВСКИЙ
О встрече в порядке сообщения
Это сообщение — не историография, не мемуар, не мемориальная доска, Маяковский слишком уж близок к нам, ко мне, ко всем — если очень завспоминаться — обожжёшься, как при солнечном перегреве.
Я, его современник и соратник — сам поэт, а не историограф, мемуаристом мне быть — рано ещё, я не засох сам, ещё слишком для того молод и тоже близок нашей эпохе, а установка мемориальных досок — тоже не моё дело, это вот Перцов59 — тот может. Значит, могу сообщить нечто, что будет важно, как ещё одно не лишнее фактическое доказательство того, как действовал Маяковский своим огромным творческим делом на всякую живую человеческую душу (а на мёртвых он действовал иначе — разрушительно!! так что всякий прах и песок сыпался и рассыпался).
— тот может. Значит, могу сообщить нечто, что будет важно, как ещё одно не лишнее фактическое доказательство того, как действовал Маяковский своим огромным творческим делом на всякую живую человеческую душу (а на мёртвых он действовал иначе — разрушительно!! так что всякий прах и песок сыпался и рассыпался).
Из этого сообщения явственно будет видно, как Маяковский своим творческим делом оздоровил окончательно моё творческое дело. Это его огромное начатое дело активизировало мою работу, конкретизировало её, побудило к живому действию, к деланию правильному, реальному, подлинно, по отношению к прежней литературе — новому, как Пушкин в свое старое время в отношении к Ломоносову, к Державину — он, Пушкин.
Ещё раз вспомянем старые годы:
1915-ый
Я, живя в Москве начинал свою поэтическую дорогу книгой стихов «Весна после смерти» (Москва, 1915, изд‹ательство›во «Альциона»). 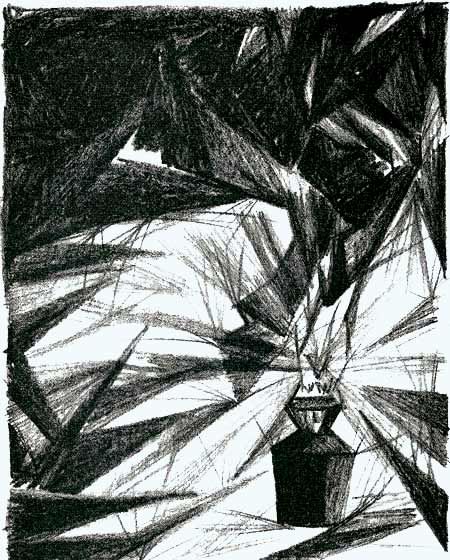 Встречался я тогда с Велемиром Хлебниковым — редко, но ценил его правильно и любил его певчий край — очень, сильно любил. Бывал я также у Вячеслава Ивановича Иванова, вместе с молодыми символяцкими старичками, которые около меня тогда вертелись и ютились. Головой я уже был — вперёд, а ноги всё ещё вязли в декадансе и символизме. Оттого вышедшая в 1915 г. моя первая книга недружелюбно была встречена Маяковским и боевым авангардом русского футуризма. Я рефлекторно тоже невзлюбил тогда Маяковского. Видеть его дело и творчество тогда я не видел — как надо, и в отношении совсем нового дела русской поэзии была у меня тогда — куриная слепота. Каюсь публично.
Встречался я тогда с Велемиром Хлебниковым — редко, но ценил его правильно и любил его певчий край — очень, сильно любил. Бывал я также у Вячеслава Ивановича Иванова, вместе с молодыми символяцкими старичками, которые около меня тогда вертелись и ютились. Головой я уже был — вперёд, а ноги всё ещё вязли в декадансе и символизме. Оттого вышедшая в 1915 г. моя первая книга недружелюбно была встречена Маяковским и боевым авангардом русского футуризма. Я рефлекторно тоже невзлюбил тогда Маяковского. Видеть его дело и творчество тогда я не видел — как надо, и в отношении совсем нового дела русской поэзии была у меня тогда — куриная слепота. Каюсь публично.
1917–1921
Прошли года, настала февральская, а потом и великая Октябрьская пора. Я зрелел ‹так!› большими глотками, здоровел головой, т.е. стал окончательно зрячим, пережив немецкую интервенцию 1918 г. на Украине в Харькове и с ‹19›20 года стал активно содействовать Крымскому подпольному ревкому РКП(б). Вот в эти самые замечательные в моей жизни годы я окончательно продрал глаза на свет, т.е. увидел весь огромный рост дела Маяковского. И назначенный после подполья Крымревкомом на ответственный пост Завлитокрымпарткома и Завлитокрымполитпросвета, я начал в Крыму работу, параллельную работе Маяковского в Роста: т.е. писал и печатал агитки, работал “Главлитруком” в Пуарм’е,60 на Кавкурсах, на Пехкурсах им. КрымЦика, в Окружкоме ЛКСМ, желдорузле Комсомола и в «Красном Крыму», местной областной газете. Тут же, в котле работы, я понял — что писать стихи так, как я писал — и писали вообще, до Маяковского, по темам современности, — нельзя. Я тогда применил физический принцип закона сопротивления материалов именно к этому моменту, и осознанию этого момента. Я искренне думал, что замызганное, рафинированное и источенное поэтическими червяками и сверчками слово, прежняя лексика, ни к чёрту не годна для начинки сильнейшим динамическим и динамитным взрывным материалом революции, современности. Я думал, что слово, лексика не выдержат нагнетания этого сильнейшего действия — его, её “разорвет”. И окончательно и бесповоротно решил отказаться от писания стихов и беллетристики и перейти целиком на газетную, журнальную и литературоведческую работу. И я не писал стихов с 1920 г. по 1931 — т.е. 12 лет.
на Кавкурсах, на Пехкурсах им. КрымЦика, в Окружкоме ЛКСМ, желдорузле Комсомола и в «Красном Крыму», местной областной газете. Тут же, в котле работы, я понял — что писать стихи так, как я писал — и писали вообще, до Маяковского, по темам современности, — нельзя. Я тогда применил физический принцип закона сопротивления материалов именно к этому моменту, и осознанию этого момента. Я искренне думал, что замызганное, рафинированное и источенное поэтическими червяками и сверчками слово, прежняя лексика, ни к чёрту не годна для начинки сильнейшим динамическим и динамитным взрывным материалом революции, современности. Я думал, что слово, лексика не выдержат нагнетания этого сильнейшего действия — его, её “разорвет”. И окончательно и бесповоротно решил отказаться от писания стихов и беллетристики и перейти целиком на газетную, журнальную и литературоведческую работу. И я не писал стихов с 1920 г. по 1931 — т.е. 12 лет.
1923
Я вернулся в Москву в 1922 г. в декабре. В 1923 г. я познакомился и сблизился с Н.Н. Асеевым и через него с Б.Л. Пастернаком и О.М. Бриком. С О.М. Бриком у меня начался настоящий контакт: Осип Максимович своим опытным глазом увидел перемену, во мне происшедшую, увидел и учёл значительность этой перемены — её органичность, — и началась деловая дружба.
 С большим чувством уважения и благодарности пишу я здесь о том, что этот деловой контакт принес мне большую пользу во всей моей работе, и с настоящим удовольствием заявляю, что он сохранился до сего времени и продолжает приносить пользу моему творческому делу и поныне. Факт, а не реклама. У Н.Н. Асеева, в его жилье на Мясницкой61
С большим чувством уважения и благодарности пишу я здесь о том, что этот деловой контакт принес мне большую пользу во всей моей работе, и с настоящим удовольствием заявляю, что он сохранился до сего времени и продолжает приносить пользу моему творческому делу и поныне. Факт, а не реклама. У Н.Н. Асеева, в его жилье на Мясницкой61 в доме Вхутемаса были тогда дни приёма, куда собирались все боевые и путевые пишущие и делающие. Здесь бывали: Б. Пастернак, М.М. Синякова,62
в доме Вхутемаса были тогда дни приёма, куда собирались все боевые и путевые пишущие и делающие. Здесь бывали: Б. Пастернак, М.М. Синякова,62 Маяковский В.В., Брик О.М. и тогда ещё льнувшая к этой буйной заводи “плотва”: В. Катаев, В. Инбер, С. Гехт63
Маяковский В.В., Брик О.М. и тогда ещё льнувшая к этой буйной заводи “плотва”: В. Катаев, В. Инбер, С. Гехт63 — молодежь, без имени, но с порохом!
— молодежь, без имени, но с порохом!
В один из дней приёма я встретился в первый раз там с Маяковским.
Тогда собрались: Брик О.М., Катаевы: В., его жена, её золотоволосая сестра, Пастернак с женой,64 Митрей Петровский, тоже с женой.65
Митрей Петровский, тоже с женой.65 Было часов 11 вечера, как вдруг распахнулась входная дверь — и вошёл Владимир Маяковский. Правильно я слышал о нём не раз, что в комнате не очень больших метров он, войдя, берёт из неё весь воздух. Так я почувствовал впервые при его ввале ‹так!› тогда к Асееву. Все невольно обратились к нему, сгрудившись у двери, как в происшествии на улице — и как бы вошли в него с воздухом вместе, за компанию. А он, большой очень, не раздеваясь, с папиросой «Английская» во рту, спросил: „Карты — есть?” И узнав, что карт сегодня — нет, собрался уходить. Асеев был тогда в самом тесном соратничестве с ним. Брик — и говорить нечего, — это был замечательный триумвират. Пастернак любил его, как мог любить Маяковского — Пастернак. Я — вглядывался в него — привыкал. Остальные — “благоговели”.
Было часов 11 вечера, как вдруг распахнулась входная дверь — и вошёл Владимир Маяковский. Правильно я слышал о нём не раз, что в комнате не очень больших метров он, войдя, берёт из неё весь воздух. Так я почувствовал впервые при его ввале ‹так!› тогда к Асееву. Все невольно обратились к нему, сгрудившись у двери, как в происшествии на улице — и как бы вошли в него с воздухом вместе, за компанию. А он, большой очень, не раздеваясь, с папиросой «Английская» во рту, спросил: „Карты — есть?” И узнав, что карт сегодня — нет, собрался уходить. Асеев был тогда в самом тесном соратничестве с ним. Брик — и говорить нечего, — это был замечательный триумвират. Пастернак любил его, как мог любить Маяковского — Пастернак. Я — вглядывался в него — привыкал. Остальные — “благоговели”.
Я никогда не видел Маяковского за игрой, но думаю, что карты ему нужны были, как тренаж страстей, м‹ожет› б‹ытъ›, и страсти — внуздывать случай — судьбу-индейку. Так и здесь у Асеева — он шёл, чтоб погонять на корде случай. И ушёл, не прощаясь, без церемонии, выкачав своей фигурой, голосом — всей своей огромной кубатурой — весь воздух из небольшой передней Асеева.
1925
Второй раз я встретился с Маяковским в Акулове, на даче, где написан известный озорной «Разговор с солнцем».66 Я пришёл к О.М. Брику в одну летнюю субботу туда в Акулове к ним на дачу вместе со своей подругой, соратницей, женой — художницей Бронкой Каменской.67
Я пришёл к О.М. Брику в одну летнюю субботу туда в Акулове к ним на дачу вместе со своей подругой, соратницей, женой — художницей Бронкой Каменской.67 Помню — Лиля Юрьевна Брик только вернулась из Англии68
Помню — Лиля Юрьевна Брик только вернулась из Англии68 и привезла с собой чудного пса — Скоттика — Шотландца усатого бородатого, пёс его знает, какой замечательной породистости.69
и привезла с собой чудного пса — Скоттика — Шотландца усатого бородатого, пёс его знает, какой замечательной породистости.69 Бронка Каменская в 1-ый раз увидела Лилю Юрьевну — и на что уж была сверхтребовательна своим вкусом к женщинам, а тут очаровалась встречей — такой Лиля Юрьевна встретилась ей дистангэ.70
Бронка Каменская в 1-ый раз увидела Лилю Юрьевну — и на что уж была сверхтребовательна своим вкусом к женщинам, а тут очаровалась встречей — такой Лиля Юрьевна встретилась ей дистангэ.70 В.В. Маяковского в этот день на даче не было — он, кажется, уехал в Москву.
В.В. Маяковского в этот день на даче не было — он, кажется, уехал в Москву.
 Мы получили приглашение прийти на завтра в воскресенье обедать; в это воскресенье на даче собиралась редакция «Лефа». С утра мы отправились в Акулово. Туда съезжались уже лефы. Прибыл Н.Н. Асеев с Оксаной Михайловной,71
Мы получили приглашение прийти на завтра в воскресенье обедать; в это воскресенье на даче собиралась редакция «Лефа». С утра мы отправились в Акулово. Туда съезжались уже лефы. Прибыл Н.Н. Асеев с Оксаной Михайловной,71 Кушнер,72
Кушнер,72 ещё лефы с женами, нам тогда неизвестные, — народу прибыло порядочно — и все разодетые по-парадному. Мы с Бронкой не блистали нарядом — и у неё и у меня носы ботинок разевали рты и дразнились пальцами, в чулках, понятно. И Маяковский, всегда одевавшийся как мастак, на этот раз без стеснения ходил в заштопанных брюках.
ещё лефы с женами, нам тогда неизвестные, — народу прибыло порядочно — и все разодетые по-парадному. Мы с Бронкой не блистали нарядом — и у неё и у меня носы ботинок разевали рты и дразнились пальцами, в чулках, понятно. И Маяковский, всегда одевавшийся как мастак, на этот раз без стеснения ходил в заштопанных брюках.
Было, как почти всегда, весело у Бриков и Маяковского — в погребе опрокинули наземь молоко или сливки, нужные для какого-то блюда, — но и блюдо изготовили, и молоко со сливками нашлись ещё, и обед был очень вкусный, и ели его все весело под смех, говор, и шутки кругом.
Маяковский сидел возле меня — справа — всё время подвигая мне то — то, то это из блюд, и усиленно угощал своими папиросами «Английские» с длинной куркой ‹так!›. Я всё время собирался поговорить с ним о самом главном — о поэтическом деле, но это так и не вышло. Каюсь — стеснялся я его, или, вернее, себя стеснял, не мог сразу взять поэтическую лиру, как быка за рога. Курил я его «Английские», ел пододвигаемое, а поговорить всё не приходилось к месту. Так дообедали, выпили кофе, встали, Маяковский пошёл на большую террасу. Погодя, я и Бронка Каменская пошли туда тоже: она — подышать воздушком, а я поговорить с Маяковским. Входим, смотрю — стоит он у перил, справа, спиной и курит. Я, решившись сразу броситься в воду, бахнул спине Маяковского: „Какая ветреная погода, Владимир Владимирович!” Маяковский — обернулся, посмотрел на меня внимательно и рявкнул залпом, оглушая: „Ддда-аа!!!” У меня оборвалось всё внутри и снаружи, я — взмок, смяк. И бежал позорно с террасы. Так в 1‹-й› раз я “разговаривал” с В.В. в Акулове.
Затем я встретился с ним в Гендриковом в квартире Брик и его — совместной.73 Там я бывал часто — в 1926 году особенно.74
Там я бывал часто — в 1926 году особенно.74 Помню — был приём с знатными иностранцами, т.е. проще: были американцы, не помню журналисты ли или — аматеры, меценаты, интересующиеся ‹так!›. Был сбор всех гостей — и Маяковский сам, персоной, и Асеев, Пастернак, О.М. Брик, Лиля Юрьевна, художники близкие Лефу — и сочувствующие. Да — был развёртывающийся уже тогда Семен Кирсанов и блестяще читал свой «Цирк»75
Помню — был приём с знатными иностранцами, т.е. проще: были американцы, не помню журналисты ли или — аматеры, меценаты, интересующиеся ‹так!›. Был сбор всех гостей — и Маяковский сам, персоной, и Асеев, Пастернак, О.М. Брик, Лиля Юрьевна, художники близкие Лефу — и сочувствующие. Да — был развёртывающийся уже тогда Семен Кирсанов и блестяще читал свой «Цирк»75 и другие искристые звуком стихи. Втиснулся и вездесующийся Митрей Петровский, который-таки нашёл час и место — прочесть свои “шансон-малорусс” на русском вамбире-вамбире76
и другие искристые звуком стихи. Втиснулся и вездесующийся Митрей Петровский, который-таки нашёл час и место — прочесть свои “шансон-малорусс” на русском вамбире-вамбире76 американцам. Стоял говор всеобщий, как на ярмарке в Тяпкатани.77
американцам. Стоял говор всеобщий, как на ярмарке в Тяпкатани.77 Пили чудный крюшон работы Л.Ю. Брик — известно какой! Ну и выпал мне час и место, вот эдак. Я пил крюшон, чокался с Пастернаком, с Асеевым, с Кирсановым, с Бриком, пил здоровье Лили Юрьевны и какой-то ярковеронозной78
Пили чудный крюшон работы Л.Ю. Брик — известно какой! Ну и выпал мне час и место, вот эдак. Я пил крюшон, чокался с Пастернаком, с Асеевым, с Кирсановым, с Бриком, пил здоровье Лили Юрьевны и какой-то ярковеронозной78 девушки с мерцающим, как Марс, краснозолотым зубом внизу направо, поспал чуть в кресле напротив неё во время речи О. Бескина,79
девушки с мерцающим, как Марс, краснозолотым зубом внизу направо, поспал чуть в кресле напротив неё во время речи О. Бескина,79 — словом, пил жизнь полной чашей.
— словом, пил жизнь полной чашей.
И вдруг заметил, что Маяковский в упор пристально смотрит на меня. Выпил ли я лишнее или вообще был на подъёме, но тогда, помню, впервые так смело — подошёл я к нему и спросил: „Что?”
А Маяковский вполголоса мне грустно прочёл: „Побрили Кикапу в последний раз, помыли Кикапу в последний раз”.80
Ещё более осмелев, я сказал: — Что, хорошо?
А Владимир Владимирович — мне: „Это-то — очень здорово, а всё-таки хорошо, что вы так больше не пишете”.
—Да я совсем никак не пишу!81
— „Ну, это-то — врёте, запишете — вы живучий”. И встав, пошёл к Лиле Юрьевне, которая осталась сидеть за чашей крюшона, где разливала его по кружечкам.
И под конец вечера, когда лил ливень летнего дождя не переставая, Маяковский подошёл сам ко мне и сказал: „Побрили Кикапу в последний раз — а вы оставайтесь ночевать у меня, я сегодня пойду к себе на Лубянку работать, а то у вас пальто с собой нет. Идите, ложитесь”, — и пошёл одеваться и ушёл.
Я счастливый остался, спал у него в комнате и, встав утром рано, когда все ещё спали, глядел при преполнившем жарком свете на его бюро. И много я передумал в эти полчаса, от вставания с его тахты до умывания в бриковской ванной.
Раз я столкнулся с ним на Кузнецком, мы крепко рукопожались и пошли рядом. Я тогда вылетел из Пресс Бюро Госиздата, где хорошо стал было работать в «Бюллетенях»82 — вышибленный оттуда соединенной оравой [радовых, тарасовых, радионовых и прочих тех, кто и сейчас окопался у нас в сегодняшнем дне]83
— вышибленный оттуда соединенной оравой [радовых, тарасовых, радионовых и прочих тех, кто и сейчас окопался у нас в сегодняшнем дне]83 рапповских приятелей. И рад я был услышать от Маяковского: — „жалко, жалко что вас выперли из Гос’издата — вы там хорошо работали”. [И вспомнили мы с ним со смехом, как он при мне запер на ключ в кабинете члена правления — Троицкого, Накорякова84
рапповских приятелей. И рад я был услышать от Маяковского: — „жалко, жалко что вас выперли из Гос’издата — вы там хорошо работали”. [И вспомнили мы с ним со смехом, как он при мне запер на ключ в кабинете члена правления — Троицкого, Накорякова84 и меня, чтоб прочесть свою поэму (???),85
и меня, чтоб прочесть свою поэму (???),85 какую, никак не могу сейчас вспомнить. А случился этот казус белли,86
какую, никак не могу сейчас вспомнить. А случился этот казус белли,86 так: я, работавши тогда Замест‹ителем› Завед‹ующего› Пресс Бюро Гиз’а, пришёл в кабинет Троицкого на доклад. У Троицкого сидел Накоряков, и я стал ждать конца их разговора. Вдруг вошёл Маяковский, поздоровался со мной, с ними и сразу заявил: — я буду сейчас читать свою поэму, давайте слушать! Троицкий и Накоряков стали уверять В.В., что сейчас им не время слушать, они идут на заседание к О.Ю. Шми‹д›ту,87
так: я, работавши тогда Замест‹ителем› Завед‹ующего› Пресс Бюро Гиз’а, пришёл в кабинет Троицкого на доклад. У Троицкого сидел Накоряков, и я стал ждать конца их разговора. Вдруг вошёл Маяковский, поздоровался со мной, с ними и сразу заявил: — я буду сейчас читать свою поэму, давайте слушать! Троицкий и Накоряков стали уверять В.В., что сейчас им не время слушать, они идут на заседание к О.Ю. Шми‹д›ту,87 бывшему тогда начальником ОГИЗ’а. А Маяковский встал, запер дверь на ключ, ключ положил в карман и стал сразу читать поэму. Я сидел, кусая рот от смеха, — а он так и не выпустил их до конца чтения. Ну — и вещь они тут же приняли, ура.]
бывшему тогда начальником ОГИЗ’а. А Маяковский встал, запер дверь на ключ, ключ положил в карман и стал сразу читать поэму. Я сидел, кусая рот от смеха, — а он так и не выпустил их до конца чтения. Ну — и вещь они тут же приняли, ура.]
Вспоминая, мы шли и глядели в оба на живший тогда по-особому Кузнецкий.88 Вдруг сюда начался ор: Маяковский!! Владивладимирыч!!! Владим Влад... И к нам побежал во всю прыть, маша руками и отсвечивая красной рубахой, чудачивший тогда в одежде, молодой прозаик, кузнец и потом военмор, печатавший свою вещь тогда в ЛЕФе.89
Вдруг сюда начался ор: Маяковский!! Владивладимирыч!!! Владим Влад... И к нам побежал во всю прыть, маша руками и отсвечивая красной рубахой, чудачивший тогда в одежде, молодой прозаик, кузнец и потом военмор, печатавший свою вещь тогда в ЛЕФе.89 Что-то очень мне не понравилось это вопящее и крикливое обожание — я простился с В.В. и быстро ушёл от его восторженного обожателя.
Что-то очень мне не понравилось это вопящее и крикливое обожание — я простился с В.В. и быстро ушёл от его восторженного обожателя.
Этот казавшийся талантливым прозаик уже выбыл из строя, а — как писатель — он последнее время держался странно: дружил с Кручёныхом и “ненавидел” О.М. ‹Брика›, Л.Ю. Брик, меня тоже сторонился и чуждался — а я, первый когда-то ещё в Крыму, написал о нем в местной газете «Красный Крым» поощрительную статью.90
Ещё я помню приснопамятную встречу в Гендриковом. Это было перед выпуском очередного № Лефа, где были помещены “воспоминания о Хлебникове” его фактотума Митрея Петровского.91 Он читал их по рукописи в это собрание. Присутствовали: В.О. Перцов, я, О.М. Брик, Владимир Владимирович — Лиля Юрьевна была тогда, кажется, в Азии,92
Он читал их по рукописи в это собрание. Присутствовали: В.О. Перцов, я, О.М. Брик, Владимир Владимирович — Лиля Юрьевна была тогда, кажется, в Азии,92 — был ещё, кажется, В.Ф. Ашмарин (Ахрамович)93
— был ещё, кажется, В.Ф. Ашмарин (Ахрамович)93 [и состоявший тогда членом редколлегии Лефа, ближайшим соратником, поэт и журналист NN, имя которого трудно сейчас произнести без отвращения: он оказался родинопродавцем и шпионом.94
[и состоявший тогда членом редколлегии Лефа, ближайшим соратником, поэт и журналист NN, имя которого трудно сейчас произнести без отвращения: он оказался родинопродавцем и шпионом.94 ]
]
Митрей Петровский, прочтя свои “воспоминания”, ждал мнений: как — достаточно ли восхитительно? Воспоминания были плохие, самохвальные, — по ним выходило, что он, Митрей, и был душой Хлебникова, его альтер’эгом.95 Кроме этого дурного тона вранья и самохвальства — ещё был пущен мистичячий дым и ладан. [Поэт и журналист NN яростно напал на “воспоминания” — в пух и прах разлетелись они под его критикой. Это было всё чертовски верно по существу, ничего не поделаешь и теперь.] Перцов — помалкивал, он тогда только-только ориентировался в Лефе и Гендриковом, работая главным образом с Чужаком в РИО96
Кроме этого дурного тона вранья и самохвальства — ещё был пущен мистичячий дым и ладан. [Поэт и журналист NN яростно напал на “воспоминания” — в пух и прах разлетелись они под его критикой. Это было всё чертовски верно по существу, ничего не поделаешь и теперь.] Перцов — помалкивал, он тогда только-только ориентировался в Лефе и Гендриковом, работая главным образом с Чужаком в РИО96 Пролеткульта, Осип Максимович [из-за каких-то деловых соображений] довольно мягко критиковал Митриевы писания. А Маяковский мрачно молчал и не смотрел на Митрия вовсе.
Пролеткульта, Осип Максимович [из-за каких-то деловых соображений] довольно мягко критиковал Митриевы писания. А Маяковский мрачно молчал и не смотрел на Митрия вовсе.
Потом, когда гости разошлись и остались свои: Перцов, [NN?] Осип Максимович, Маяковский и я — [NN резко] был поставлен [перед Бриком и Маяковским] вопрос вообще о посещениях собраний Петровским — [он заявил, что если Митрей будет по-прежнему ходить сюда — то он, NN, уйдет из Лефа] Брик, опять мягко, но категорически обещал выставить и не пущать Митрея в Гендриков. Маяковский — молчал, а потом вдруг, обратившись ко мне, сказал: „А вы, Чурилин, тоже не выносите Петровского?” Я встречно смело спросил: „А вы, Владимир Владимирович?” Маяковский ответил мне хлебниковскими про Петровского словами: „Я сего пана достаточно знаю”.97 Потом встал и сказал: ну, я поехал к себе на Лубянку — кто вместе? [NN] Перцов собрался и ушёл с ним [ушёл Перцов], а я остался опять ночевать у Владимира Владимировича в комнате, так как хотел поговорить с Бриком о многом.
Потом встал и сказал: ну, я поехал к себе на Лубянку — кто вместе? [NN] Перцов собрался и ушёл с ним [ушёл Перцов], а я остался опять ночевать у Владимира Владимировича в комнате, так как хотел поговорить с Бриком о многом.
И ещё о двух встречах (их было немного) осталось написать здесь. Опять собрались в Гендриковом к концу лета, опять угощала великолепным нектаром крюшона Лиля Юрьевна, — и опять впутался средь нас Митрей Петровский, хотя долгонько его не пускали сюда, — Брик сдержал слово. К счастью для Митрея — [NN] его противников не было — но был зато я, и я [наслаждался] отвел душу, каюсь. В числе своих был Пастернак, с которым у меня тогда очень ладилась приязнь и дружба. За крюшоном было весело, звонко раскатывались смехунечки очень весёлых тогда девушек лефовских, Лавинской98 и Семёновой,99
и Семёновой,99 — веселиться не стеснялись. И дернул меня чёрт, подвыпив, поднять кружечку с крюшоном за одну песенку казачью Митрея с припевом „вамбир-вамбир” и потянулся чокнуться с ним, Митрей, отстранясь, перекосился, передёрнулся и изрёк: — Я — не хочу — пить с вами — я вас — не выношу. — Минута — и я выплеснул бы ему свой крюшон в личину, так я рассвирепел тогда. Я уже крикнул — скотина! Но тут Маяковский, круто повернувши, подошёл ко мне с кружкой и сказал только „давайте” и чокнулся, и выпил. Я — остыл, и всё кончилось ладно. Пред разъездом В‹ладимир› В‹ладимирович› успел сказать мне: „не трожьте пана, так он и не воняет”100
— веселиться не стеснялись. И дернул меня чёрт, подвыпив, поднять кружечку с крюшоном за одну песенку казачью Митрея с припевом „вамбир-вамбир” и потянулся чокнуться с ним, Митрей, отстранясь, перекосился, передёрнулся и изрёк: — Я — не хочу — пить с вами — я вас — не выношу. — Минута — и я выплеснул бы ему свой крюшон в личину, так я рассвирепел тогда. Я уже крикнул — скотина! Но тут Маяковский, круто повернувши, подошёл ко мне с кружкой и сказал только „давайте” и чокнулся, и выпил. Я — остыл, и всё кончилось ладно. Пред разъездом В‹ладимир› В‹ладимирович› успел сказать мне: „не трожьте пана, так он и не воняет”100 и окончательно меня этим развеселил. Я окончил вечер, дурачась и веселясь, как редко веселился в Гендриковом. А Митрей исчез, как дым, как ладан после молебна в гостиной прежнего хорошего дома, попав туда — ничего не поделаешь как.
и окончательно меня этим развеселил. Я окончил вечер, дурачась и веселясь, как редко веселился в Гендриковом. А Митрей исчез, как дым, как ладан после молебна в гостиной прежнего хорошего дома, попав туда — ничего не поделаешь как.
Последний раз в 1927 году встретился я с Маяковским — и не видел его больше [т.к. заболел тяжело и проболел 4 года]. Я работал тогда в Пролеткульте в РИО и ещё в Современной Архитектуре Гинзбурга и Веснина,101 уже тогда боевых и замечательных архитекторов, — и разворачивался — „левой, левой, левой!”102
уже тогда боевых и замечательных архитекторов, — и разворачивался — „левой, левой, левой!”102 в С‹овременной› А‹рхитектуре›. Запустил я свои приходы в Гендриков, давненько не был. И у окошка, где платят авторский гонорар, я столкнулся с В‹ладимиром› В‹ладимировичем› — он получал — много, я — мало, но увидев меня, он оживленно крикнул: — А, Чурилин, здравствуйте, где вы пропали? — Я работаю в «Современной архитектуре», Владимир Владимирович, дело там интересное.
в С‹овременной› А‹рхитектуре›. Запустил я свои приходы в Гендриков, давненько не был. И у окошка, где платят авторский гонорар, я столкнулся с В‹ладимиром› В‹ладимировичем› — он получал — много, я — мало, но увидев меня, он оживленно крикнул: — А, Чурилин, здравствуйте, где вы пропали? — Я работаю в «Современной архитектуре», Владимир Владимирович, дело там интересное.
— А! это — хорошо, свои везде нужны, а чего ж вы к нам не ходите?
— Да загрузился работой, меня подолгу на работе держат. — Так, Вы приходите в ближайшее ‹время›. Ну, до свиданья, ждём. — И больше я его никогда не видел на свете — словно он отбыл в далёкий безвестный отъезд.
[Вспоминаю, как мне в Донской больнице сказали об его смерти. Пришёл ко мне в палату С.Л. Цейтлин, главврач, очень внимательно хождения своего главврачом в Донской, на конференциях, отстаивающий в отношении меня на конференциях благополучный прогноз — моё выздоровление, т.к. считал диагноз проф‹ессора› Гиляровского103 — ошибочным, а мой интеллект — не разрушенным, сохранившимся, — принёс он мне первую весть о смерти Маяковского — Вечёрку с известием о конце поэта. Я прочёл заметку и с негодованием крикнул: фальшивка! неправда!! — и отвернулся к стене. Даже в моём больном горячечном мозгу, бредившем тогда очень тяжко, явился яростный протест против смерти Маяковского — так я любил его и помнил и больной, не поверил я и Бронке Каменской — и с яростью крикнул ей, когда она подтвердила смерть В<ладимира> Владимировичам — врёшь! Продаёшь Маяковского!!! Аналогично вспоминаю случай, когда меня перевели в 1-ую “наблюдательную” [(буйную)] комнату из-за вспышки ярости и протеста за „Сталина и Маяковского”. В течение часа я кричал в спокойной 2-ой палате: „Да здравствует Генеральный Секретарь Компартии Мира — Иосиф Сталин! Да здравствует вождь поэзии 20 века — Владимир Маяковский!” Долго терпели мой патриотизм, социальный и поэтический, медперсонал и врачи — и, наконец, прекратили: очень буйно это было!]
— ошибочным, а мой интеллект — не разрушенным, сохранившимся, — принёс он мне первую весть о смерти Маяковского — Вечёрку с известием о конце поэта. Я прочёл заметку и с негодованием крикнул: фальшивка! неправда!! — и отвернулся к стене. Даже в моём больном горячечном мозгу, бредившем тогда очень тяжко, явился яростный протест против смерти Маяковского — так я любил его и помнил и больной, не поверил я и Бронке Каменской — и с яростью крикнул ей, когда она подтвердила смерть В<ладимира> Владимировичам — врёшь! Продаёшь Маяковского!!! Аналогично вспоминаю случай, когда меня перевели в 1-ую “наблюдательную” [(буйную)] комнату из-за вспышки ярости и протеста за „Сталина и Маяковского”. В течение часа я кричал в спокойной 2-ой палате: „Да здравствует Генеральный Секретарь Компартии Мира — Иосиф Сталин! Да здравствует вождь поэзии 20 века — Владимир Маяковский!” Долго терпели мой патриотизм, социальный и поэтический, медперсонал и врачи — и, наконец, прекратили: очень буйно это было!]
Теперь — самое главное: что дала мне встреча с Маяковским? Встречей с ним я считаю свой вход в то русло, в которое я был введен нашей революцией. Это года 19, 20, 21, когда я продрал глаза и на Маяковского. Я увидел впервые в жизни рост и кубатуру его поэзии. Я увидел его выходящим из наших новых лет, голого, как солнце, т.е. голого без гуньки кабацкой и фрачности старого мира. Его слово было необычно — вернее: такого никогда ещё не было.
Повторялось столетнее чудо: 100 с лишним лет назад вставал тогдашний Пушкин тоже новатором своего времени. И так же, как и Маяковского, его лаяли и на него побрехивали писатели его современники, даже любящий Кюхельбекер и то повизгивал: слаб Пушкин, слаб Пушкин!.. А слабый Пушкин освобождал русскую поэзию и вообще художественную литературу также от вчерашней и давнишней завали, говорил и “пел” совсем новым русским манером. Теперь это далеко — и заобыкновенилось, — и вошла крепко в быт бывшая новизна, отставая уже от нашей быстри, хода жизни, темпов. Вот здесь и понадобился Маяковский — его сила, рост и кубатура подлинно новой поэзии.
Так вернемся к вопросу: что же дала мне моя жизненная поэтическая встреча с Маяковским, т.е. с его творчеством — конкретно и реально? Когда-то в 1920 году, ослепленный, оглушенный и изумлённый светом, грохотом и чудесами ломающей всё старое новой жизни, я усомнился честно-производственно, т.е. профессионально-литературно: а может ли изветшавшая оболочка литературы-слова вынести атмосферы давления и кипения революционного действия? Я призвал даже как аргумент закон сопротивления материалов. Но, видно, я тогда был плохим физиком, либо — плохим профессионалом, — я просчитался. Благодаря этому просчёту я не писал стихов почти 12 лет. Я варился в общем котле, учился, глядел в оба и в полтора — и в 4 глаза! И вернул меня к моему профессиональному делу поэта — Маяковский.
Во 1-ых, я продрал глаза на его поэзию, как сообщал здесь раньше, уже в 19, 20, 21 года революции. Здесь в Москве, встретившись с ним, я глядел на него, слушал его, пытая его стихи, его дело, его работу. Я увидел и узнал именно у него и через него — что именно в его поэзии закон сопротивления материалов, т.е. равновесие силы материала-слова и боевого его смысла и действия — им соблюдён, вернее, точно: он нашёл словесный материал, его форму, и закалил всё своим поэтическим трудом новатора — и зажёг гигантское солнце своего поэтического слова и дела.
Это дало и мне уверенность и силу: искать и находить.
Я ищу, нахожу, и буду делать это до самой своей смерти, буду верным соратником и продолжателем великого дела Маяковского. “Маяковский и мы!” — вот лозунг нашего общего большого и важнейшего поэтического дела, работы, литературы!
ВСТРЕЧИ НА МОЕЙ ДОРОГЕ104
Моя дорога — путь без широкой славы, но и без бесславия. Хотя, если слово “бесславие” понимать эмпирически просто — то мои эти хронологически последние годы в Москве — это бесславие, т.е. просто годы славы, что меня нет нигде. Простите за плохое “мо”.105
Мой путь — лесной, через лес — густой, северный “волок”, почти тайга, где меня и не видно. Оттого я и люблю больше всего лес, больше равнин, хотя — степи люблю тоже. В лесу — чудеса, там — леший бродит, русалка сидит на ветвях. А родился я как раз в бывш‹ей› Тамбовской губернии, ныне Воронежская область, где лесов-то маловато — больше — рощи. Но всё-таки — моя дорога лесная. Что ты тёмный лес — призадумался? Ревёт ли зверь в лесу густом…106 И дорога моя — зелёная, хлорофилловая — зелёный цвет — любимец Хлебникова и мой. Ведь и поэзия — это озеленение. Правда.
И дорога моя — зелёная, хлорофилловая — зелёный цвет — любимец Хлебникова и мой. Ведь и поэзия — это озеленение. Правда.
И ещё моя дорога — речная, лесная и речная. Река — движение, всё течет. Текя ‹так!›, она впадает в море, а то — сливается с океаном. Так и поэзия: её функция — озеленение, хлорофиллокация, а её основная жизнь — ритм — течёт как река. Вот и новооткрытый Хлебниковым закон движения ритма: единство песенного распева — это беспрерывное движение рек, родников, речушек и речений поэзии к морям и океанам мирового общего единства Творчества (Поэзии).107
И выходит, что моя сознательная дорога, т.е. в том времени моего сознания, когда оно увидело и поняло — из дремучего леса, полного хлорофиллом, вышла она и пошла, но сначала речение, а потом река — двигаться, течь, плыть своими ритмами, звуковыми и зрительными образами.
Это было время моей встречи с поэтом Григорием Петниковым,108 ближайшим к Хлебникову его соратником и продолжателем.
ближайшим к Хлебникову его соратником и продолжателем.
До этого я хоть и любил Хлебникова — но любил его полусознанием, а не знанием. Я чувствовал его необычайность, а в чём она — не сознавал. Мешал этому сознанию выбросивший меня из своего живота жизни символизм и символисты, хотя крупнейший из них, Вячеслав Иванов, сам очень ценил и любил Хлебникова. Но и он не знал самого главного в Хлебникове, в котором его пленяло — то, что незадачливый нынешний исследователь, с позволения сказать, совсем незрячий и слепой кутёнок, Сурков, гордо-самоуверенно называет “архаикой” и “реакционерством”109 в Хлебникове. На самом деле это знаменитый, по Тютчеву, “древний хаос”,110
в Хлебникове. На самом деле это знаменитый, по Тютчеву, “древний хаос”,110 с которым Хлебников всю свою поэтическую жизнь боролся и преодолел его. Вот этого-то, одного из самых главных в Велемире факторов его замечательного поэтического дела — и не видел в Xлебникове Вячеслав Иванов, как не видел этого и ныне слепой Сурков.111
с которым Хлебников всю свою поэтическую жизнь боролся и преодолел его. Вот этого-то, одного из самых главных в Велемире факторов его замечательного поэтического дела — и не видел в Xлебникове Вячеслав Иванов, как не видел этого и ныне слепой Сурков.111 И когда вышла первая моя книга «Весна после смерти», в которой уже был переборон ‹так!› символизм, — я, выросший из недр символизма, всё ещё самого главного не сознавал, не видел — а предугадывал. То же самое произошло со мной много раньше в моей классовой среде и быту. Родился я в девяностых годах в российской империи, в маленьком уездном городе Лебедяни, Тамбовской губернии.
И когда вышла первая моя книга «Весна после смерти», в которой уже был переборон ‹так!› символизм, — я, выросший из недр символизма, всё ещё самого главного не сознавал, не видел — а предугадывал. То же самое произошло со мной много раньше в моей классовой среде и быту. Родился я в девяностых годах в российской империи, в маленьком уездном городе Лебедяни, Тамбовской губернии.  Родился в семье лебедянского купца 2‹-й› гильдии Василия Ивановича Чурилина как его единственный сын и наследник. Но и эта единственность и наследование оказались призрачными. Уже подростком 15‹-ти› лет я знал от тётки, сестры моей покойной матери, что я не сын В.И. Чурилина, а мой отец — еврей, провизор, и что я — плод любви, на самом деле то, что в народе называется ‹2 нрзб›, а русскими: выб....док.
Родился в семье лебедянского купца 2‹-й› гильдии Василия Ивановича Чурилина как его единственный сын и наследник. Но и эта единственность и наследование оказались призрачными. Уже подростком 15‹-ти› лет я знал от тётки, сестры моей покойной матери, что я не сын В.И. Чурилина, а мой отец — еврей, провизор, и что я — плод любви, на самом деле то, что в народе называется ‹2 нрзб›, а русскими: выб....док.
На самом деле среда моя меня, как и символизм, начала выбрасывать из себя и от себя отбрасывать куда раньше. Да и как иначе? — Мама моя, сама выше своей среды развитием, начала меня учить читать с 3-х лет, 4‹-х› лет я уже сносно читал печатное и прочёл впервые у мамы наверху её любимую книгу: Дюма — «Анна Австрийская».112 Жадность к чтению была у меня огромная. Я перечитал все, что у мамы было наверху, всю беллетристику, и уже 9‹-ти› лет удивлял всех в доме и округ своим развитием, Я разговаривал с взрослыми, как взрослый молодой человек со средним образованием. Многие удивлялись, а многие качали головами и пророчили: с ума сойдет, быть худу, Библию уж читает! А я действительно добрался и до Библии, и всё, что было там поэтически образным — мной было прочитано и запомнено. С этой стороны я был несомненным вундеркиндом.
Жадность к чтению была у меня огромная. Я перечитал все, что у мамы было наверху, всю беллетристику, и уже 9‹-ти› лет удивлял всех в доме и округ своим развитием, Я разговаривал с взрослыми, как взрослый молодой человек со средним образованием. Многие удивлялись, а многие качали головами и пророчили: с ума сойдет, быть худу, Библию уж читает! А я действительно добрался и до Библии, и всё, что было там поэтически образным — мной было прочитано и запомнено. С этой стороны я был несомненным вундеркиндом.
Странно, что с детства я не любил особенно чтоб — стихов. У Пушкина меня занимала проза: «Капитанская дочка», «Повести Белкина». Стихи Лермонтова мне пришлись лучше: я их любил больше. Вину тому должны искать в гимназии: с подготовительного класса надо было задалбливать стишки. А вообще художественное чтение меня поглощало — в гимназии уже в 3 классе мне давали книги из фундаментальной библиотеки: я ухитрился ученическую — проглотить от и до — восьмилетним. [Отсюда — великолепное] Правописание — благодаря зрительной памяти, конечно. Стихов я в детстве не писал. Я только импровизировал пародийные “речи”: так, например, я насмешил и восхитил всю “интеллигентную” часть трактира В.И. Чурилина, его т.е. руководство — знаменитого у нас канареечника и тайно-поэта, буфетчика Гаврила Фёдоровича Палова и винного буфетчика Игнат‹а› Николаевича Прусов‹а›, книгочея, — тем, что произнёс яркую и “обличительную” речь против нашей горничной ‹1 нрзб›, уснастив “речь” цитатами из писания и библии! Эффект был огромный!
Потом помню: мне было 13 лет, третьеклассник гимназии. Приехала к соседям из Ельца знакомая портниха, довольно развитая молодая женщина, читавшая много. Я гулял с ней по улице, мимо наших домов — и говорил, говорил о Художественном театре в Москве (по фельетонам Дорошевича и Яблоновского113 в «Русском Слове»!) и Шаляпине (те же источники — но тут же фантазировал и отсебятины ‹так!›). И тут я восхитил слушательницу — придя к соседям, дома ‹так!›, она с восторгом заявила: да это гениальный мальчик! Я среди студентов не слыхивала такого развития! И получила ответ: да он — полоумный, он книжками считался ‹так!›; нашла, кого хвалить! Тиша-то — чумной, шамашедший!
в «Русском Слове»!) и Шаляпине (те же источники — но тут же фантазировал и отсебятины ‹так!›). И тут я восхитил слушательницу — придя к соседям, дома ‹так!›, она с восторгом заявила: да это гениальный мальчик! Я среди студентов не слыхивала такого развития! И получила ответ: да он — полоумный, он книжками считался ‹так!›; нашла, кого хвалить! Тиша-то — чумной, шамашедший!
Очевидно, и в Лебедяни, и у нас в Союзе писателей у некоторых одинаково незаурядное считается шемашедшим. Трогательное единство, корреспонданс!
Уже после окончания гимназии я пробую писать стихи. Странно — но тогда на меня действовал... Надсон. Я над ним плакал! Ряд стихов я послал в «Ниву». И получил от тогдашнего редактора «Нивы», писателя Светлова,114 письмо, где он, обратив внимание на мои стихи, поощрительно резюмировал: в вас есть поэтическая жилка... учитесь... работайте — и присылайте нам на просмотр. Через 2 года первые мои стихи появились в «Литературном приложении» к «Ниве», июль 1908 года — «Мотивы».
письмо, где он, обратив внимание на мои стихи, поощрительно резюмировал: в вас есть поэтическая жилка... учитесь... работайте — и присылайте нам на просмотр. Через 2 года первые мои стихи появились в «Литературном приложении» к «Ниве», июль 1908 года — «Мотивы».
По приезде в Москву в 1906 г. первые студенческие годы проходят под знаком увлечения символистами Бальмонтом, Брюсовым, Сологубом. Но особенно пал мне в душу — Иван Коневской. В дальнейшем “властителем дум” сделался Андрей Белый. Его поэзия и проза были трамплином, от которого меня отбросило потом — вперёд и выше! В Белом меня привлекли его ритмика и интонационность. В Коневском — своеобразие синтаксиса. Оба поэта серьезно влияли на меня тогдашнего. Вот отсюда вышла «Весна после смерти», первая книга, введшая меня в русскую поэзию 20 века.
 Ещё в мои студенческие годы, особенно так к окончанию их, я серьёзно ознакомился с русским символизмом и декадентством. В 1918 г. за границей, в Лозанне, где я “совершенствовал” себя во французском языке, я, пользуясь библиотечкой русского Мезон Попль,115
Ещё в мои студенческие годы, особенно так к окончанию их, я серьёзно ознакомился с русским символизмом и декадентством. В 1918 г. за границей, в Лозанне, где я “совершенствовал” себя во французском языке, я, пользуясь библиотечкой русского Мезон Попль,115 где оказался весь комплект «Весов» за все их годы и «Золотое Руно». Там же были и Белый, и Брюсов, Блок и Сологуб, и Вячеслав Иванов, Ремизов, Кузмин — кто-то щедро наградил полки. Эмигрантское положение! Всё это мной было ещё раз прочитано и конспектировано. ещё раз внимательно я прочитывал русских символистов и проверял себя и их — взаимоотношения.
где оказался весь комплект «Весов» за все их годы и «Золотое Руно». Там же были и Белый, и Брюсов, Блок и Сологуб, и Вячеслав Иванов, Ремизов, Кузмин — кто-то щедро наградил полки. Эмигрантское положение! Всё это мной было ещё раз прочитано и конспектировано. ещё раз внимательно я прочитывал русских символистов и проверял себя и их — взаимоотношения.
И опять ближе ко мне оставались былые: Иван Коневской и Андрей Белый. Из французов-поэтов тогда восхищал меня Поль Верлен. Пригляделся я и к Лафоргу. Встречно ахнул я на Франца Вийона, и этот был очень хорош для меня! ещё позднее я познакомился с дружком Верлена, озорником Ж.‹так!›А. Рембо. И этот занял меня, моё воображение. И наконец — ещё по и по спустя, уже после выхода «Весны», перед встречей с Петниковым — начал я интересоваться Стефаном Малларме.
Немцев, к сожалению, кроме классиков по переводам, я не знал в эти годы. Позднейше совсем, в зрелости, почти параллельно с Пастернаком заинтересовался я Р.-М. Рильке. Потом благодаря Петникову познакомился я с молодыми поэтами-немцами-экспрессионистами и даже перевел Курта Абира ‹?›, Курта Теймпля ‹?›, Августа Штрома, Альберта Эренштейна.116
Помню: сильное впечатление в ранние мои годы на меня оказал Уитмен.
Из русских прозаиков с самых ранних лет восхищал, как восхищает и сейчас, — Лесков. Это — мой спутник. Любил и люблю Гоголя — это тоже и учитель, и спутник до сих пор. В зрелые мои годы пришла любовь к Толстому и Гончарову. Я вижу ясно и поныне — какие это разбойнички, моё почтение! Есть чему поучиться — конечно, не по-фадеевски и подобным. Они просто шьют и кроят по толстовскому фасону. Во-первых, толстовский фасон — это отлично, но старомодно. Во-вторых, раз это — старомодно, увы, тогда для нас не отлично. Попробуйте походить сейчас в галстухе, три раза обматывающем шею. Тогда — это имело смысл, сейчас — никакого, лучше отстёгивать летом ворот рубашки, как это и приняли у нас.
Итак, изучение и грызьба символячьего гранита началось и шло у меня в мои юные, студенческие, годы. Это накапливало во мне поэзию, которая будто и шла из истины символизма, но по существу, как правильно определил это О.М .Брик в своем вступительном слове к моей книге «Жар-Жизнь»,117 — была пародийной.
— была пародийной.
Это действительно показала книга «Весна п‹осле› смерти», в которой большая часть стихов — пародийны. От этого-то символисты поспешили назвать её и футуристической или кубофутуристической, ибо они чуяли во мне — их же свергателя, их же разрушителя — и поспешили отмежеваться. А “футуристы” — Маяковский, Асеев, Петников очень внешне ‹?› отнеслись к «Весне» — отчасти по её паспорту, по месту её прописки — «Альциона», отчасти по эмпирическим вехам: Коневской — Андрей Белый. И не отрицая высокого мастерства поэта, её символячья плаценда не была ей прощена — вместо того, чтоб по-повивальному отрезать её и наградить новорожденного ребенка звонким шлепком по заду — чтоб закричал: о, — ляло! они и плаценды не отрезали, а к ребенку повернулись сами задом: символяка-де. Напрасно, дорогие товарищи — сами видите, что поспешили. А выход «Весны» в 1915 году был событием двух родов: 1-ый, типографски-издательский — издание выделилось замечательной формой и тщательностью. 2-ое: поэт, никогда к‹оторого› и не слыхивали раньше — сразу заявил ‹себя› большим мастером. Об этом мне говорил Л.В. Ниславский‹?›,118 Александр Блок говорил, но позже, своему другу В.А. Зоргенфрею: „я прозевал большого поэта”.119
Александр Блок говорил, но позже, своему другу В.А. Зоргенфрею: „я прозевал большого поэта”.119 Но В.В. Маяковский “ругался” — мне передавала моя кузина Е.И. Л‹амаки›на,120
Но В.В. Маяковский “ругался” — мне передавала моя кузина Е.И. Л‹амаки›на,120 что он ругал книгу и меня (ясно, что за символячий паспорт и эпиграфы). Пародийность её была распознана и определена значительно позже замечательным знатоком русской поэзии 20 века О.М. Бриком. Вот его строки:
что он ругал книгу и меня (ясно, что за символячий паспорт и эпиграфы). Пародийность её была распознана и определена значительно позже замечательным знатоком русской поэзии 20 века О.М. Бриком. Вот его строки:
Тихон Чурилин прошёл хорошую поэтическую школу.
Стихи он начал писать давно — ещё в дореволюционное время.
Писал так, как писали лучшие поэты ущербного символизма.
Блестящая техника, тончайшее поэтическое чутьё и призрачная сверх-идеалистическая, почти уже пародийная тематика.
121
Выпустив в ‹19›15 году «Весну» — автор (т.е. я — Т.В. Ч‹урилин›) затосковал. Сторожевым отцовским инстинктом (должно быть, есть и такой, параллельно материнскому) он чуял — то, да не то. Пародийности было ему мало, он тосковал по новизне, по иному. И в 1918 году встреча в Харькове с Григорием Петниковым мне открыла глаза на то, что стало для меня законом поэзии, его же не перейдёшь и не объедешь на коне символизма. Это был знаменитый закон Хлебникова «Распевочное единство». Я наконец осознал Хлебникова как надо. И началась для меня музыка — о-та! под неё заплясали и лес, и горы!!
«Распевочное единство». Это гениальное исследование Хлебниковского начала поэзии замечательного, рано погибшего юноши Земного шара, Богдана Божидара (Гордеева).122 Советую всем интересующимся Хлебниковским началом поэзии внимательно не только прочитать — а и проштудировать эту книжку. Издана она изд‹ательст›вом «Лирень» и из‹дательством›вом «Центрифуга». В настоящее время — библиографическая редкость. Есть, конечно, в б‹иблиотек›е Ленина и должна быть в библиотеке им. Маяковского в Маяковском переулке.
Советую всем интересующимся Хлебниковским началом поэзии внимательно не только прочитать — а и проштудировать эту книжку. Издана она изд‹ательст›вом «Лирень» и из‹дательством›вом «Центрифуга». В настоящее время — библиографическая редкость. Есть, конечно, в б‹иблиотек›е Ленина и должна быть в библиотеке им. Маяковского в Маяковском переулке.
У меня её украли — “любитель” в Крыму, Симферополе в 1922 г. Просто безвозвратная потеря.
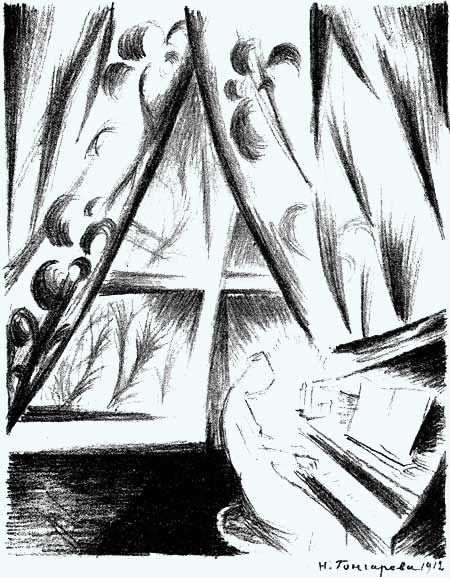 Надо рассказать тем, кто будет читать эти строки, — в чём тут зарыта собака? Собака зарыта в воде, которая течёт, если она не прудовая, не озерная, не болотная. Речная и Морская вода течёт — и в этом вся суть. Вспомните изумительное Гераклитово древнее откровение (открытие) — „Всё течет”. Т.е. всё, что течёт (движется) есть жизнь. Всё, что стоит — есть смерть или анабиоз (полу-смерть).
Надо рассказать тем, кто будет читать эти строки, — в чём тут зарыта собака? Собака зарыта в воде, которая течёт, если она не прудовая, не озерная, не болотная. Речная и Морская вода течёт — и в этом вся суть. Вспомните изумительное Гераклитово древнее откровение (открытие) — „Всё течет”. Т.е. всё, что течёт (движется) есть жизнь. Всё, что стоит — есть смерть или анабиоз (полу-смерть).
Давайте, друзья — и “враги” — т.е. не верующие и сомневающиеся (слепые), будущие читатели этих строк, посмотрим назад, в прошлое нашей поэзии, в её ретроспект.
В очень далеком прошлом, которое и забито ‹так!› и полуубито вдосталь, поэзия не писалась, а пелась или говорилась. Тогда всякий стих был — песней.
Песни эти были прежде всего — живыми, т.е. они не были закованы в доспехи метра — размера, тяжёлые и ныне проржавленные, хоть их и чистили мылом, мелом — или иногда слишком усидчивыми задами. Они текли, т.е. двигались ритмом свободно, в так называемом лирическом “беспорядке” ритма. Вот это был исток поэзии народной, её замечательное русло, полное жизни, — и это мы видим теперь в восстановленной мудростью политики нашего вождя Сталина поэзии и искусства всех народностей нашего Союза. Ашуги, творцы, сказители123 показывают нам это живописное русло поэзии. Оно замечательно, оно живет, п‹отому› ч‹то› движется, течёт в свободе своего ритма.
показывают нам это живописное русло поэзии. Оно замечательно, оно живет, п‹отому› ч‹то› движется, течёт в свободе своего ритма.
А вот русское декадентство и особенно русский символизм заковали русскую песню в такую стальную броню изысканных и утончённых всевозможных размеров — метров, что поэзия поржавела ‹?› от этаких жестяных и металлических изделий! Она мертвела не только от символизма и декадентства — тот натурализм, т.е. гробовая доска творчества (poesiae), который был в чести и у тогдашнего среднего и высшего мещанина (ибо — кто, как не мещанин в искусстве, был великосветский болван, болванчик, которых так хорошо выставил гениальный старик Лев Толстой в «Плодах просвещения» — да и в «Анне Карениной», да и в «Отце Сергии», да и в «Войне и мире». — Взять и увеликосветить болвана и болванчика в искусстве, также не имевших вкуса и понятия). Известно кто был в чести: в поэзии — К.Р. — плохой плет, вроде Надсона, и ныне поющего так же плохо гражданственной силе ‹так!›, как и плохо пел патриоти‹чность›, да и лирически К.Р. — Константин Романов,124 да и Плещеев, да и П.Я. — народносусальный эсер, придворный поэт «Русского Богатства» Л. Мельшин125
да и Плещеев, да и П.Я. — народносусальный эсер, придворный поэт «Русского Богатства» Л. Мельшин125 — каждый по-своему. Но силы поэзии не было, такой силы, какая была у Некрасова, — а шёл Некрасов от народной песни, не стесняя её оковами строчек и изысканных размеров в ущерб движению — течению — ритму. Да и действительно превосходная мастерская поэзия, классическая по существу своему, была великолепным озером, которое чудесно отражало воздушную природу своей стоячей водой-зеркалом. В озеро впадали ручьи, роднички, которые сами текли, жили. Это были народные струи песен, сказов, которые, струясь жизнью и живя движеньем ритма, влились — и застыли в чудной стоячей воде озера.
— каждый по-своему. Но силы поэзии не было, такой силы, какая была у Некрасова, — а шёл Некрасов от народной песни, не стесняя её оковами строчек и изысканных размеров в ущерб движению — течению — ритму. Да и действительно превосходная мастерская поэзия, классическая по существу своему, была великолепным озером, которое чудесно отражало воздушную природу своей стоячей водой-зеркалом. В озеро впадали ручьи, роднички, которые сами текли, жили. Это были народные струи песен, сказов, которые, струясь жизнью и живя движеньем ритма, влились — и застыли в чудной стоячей воде озера.
Хлебников первый после Пушкина, нарушившего своим смелым новаторством торжественную оцепенелость русской поэзии, — нарушил великолепный стоячий покой, статику четырехстопных, пятистопных ямбов и иных метров послепушкинской поэзии — вольным движеньем ритма, беря не одинаковые для того размеры: ямб, анапест, дактиль, хорей, — а пользуя их без церемоний симметрии размеров, а беря их все в чредовании — но в единстве одного цельного распева.126 Читая его любое стихотворение, вы видите ‹...›127
Читая его любое стихотворение, вы видите ‹...›127
Асеев
Это самый близкий к Маяковскому соратник, собрат-поэт. — „Есть ещё у нас Асеев, Колька — этот может, хватка у него моя!”128 Асеев вместе с Григорием Петниковым также близко стояли к Хлебникову, были его ближайшими собойцами, собратьями-поэтами.
Асеев вместе с Григорием Петниковым также близко стояли к Хлебникову, были его ближайшими собойцами, собратьями-поэтами.
 Петниковский «Лирень», книгоиздательство крошечное, как ноготь на мизинце возлюбленной — поэзии, было в свое время замечательным по чистоте отбора издаваемых им: Хлебников, Божидар, Асеев, Петников, Новалис — и потом в конце своей жизни и даже в огне революции — Тихон Чурилин. Потом — Хлебниковские «Временники» — боевые бюллетени русского футуризма — редколлегия: Хлебников, Петников, Асеев, Каменский Василий.129
Петниковский «Лирень», книгоиздательство крошечное, как ноготь на мизинце возлюбленной — поэзии, было в свое время замечательным по чистоте отбора издаваемых им: Хлебников, Божидар, Асеев, Петников, Новалис — и потом в конце своей жизни и даже в огне революции — Тихон Чурилин. Потом — Хлебниковские «Временники» — боевые бюллетени русского футуризма — редколлегия: Хлебников, Петников, Асеев, Каменский Василий.129 Всё это было молодо, романтично, задорно, поэтично, ново, как пенье певчих птиц после зимы — только-только. Хорошее было время в тогдашней кругом плохой жизни.
Всё это было молодо, романтично, задорно, поэтично, ново, как пенье певчих птиц после зимы — только-только. Хорошее было время в тогдашней кругом плохой жизни.
Я повстречался с Асеевым в 1924 году. Меня свёл с ним собственно по телефону этот проклятый NN, поэт и журналист, тогда близко стоявший к Асееву, Маяковскому, Брику. Я стал бывать у Асеева на верхотурье в доме Вхутемаса на Мясницкой. Квартира Асеева была штабом связи с Дальним Востоком, откуда он только что приехал:130 но твёрдо его посещали 2 чел‹о›в‹е›ка, молодых дальневосточников, признающих в Москве — писание чернилом, карандашом, мелом, ещё черт знает каким писаком.131
но твёрдо его посещали 2 чел‹о›в‹е›ка, молодых дальневосточников, признающих в Москве — писание чернилом, карандашом, мелом, ещё черт знает каким писаком.131 Туда же собирались все боевые свежие деятели искусств: поэты, художники, музыканты, — студенты.
Туда же собирались все боевые свежие деятели искусств: поэты, художники, музыканты, — студенты.
Внешне Асеев был в то время очень занятным, интересным, особым. Есть книжечка его стихов, изданная «Огоньком» с заголовком «Песни».132 Там на обложке его фото — молодой серый волк. Тогда он таким и был — молодой остролицый серый волк — для врагов. Для друзей он был обаятельно прост, открыт, душевен, певуч и туго-упруг, как тетива боевого лука. Помню вечера у Асеева на Мясницкой в 1924–1925 г. Когда собирались свои: Пастернак, Брик, Синяковы, Мария и Вера,133
Там на обложке его фото — молодой серый волк. Тогда он таким и был — молодой остролицый серый волк — для врагов. Для друзей он был обаятельно прост, открыт, душевен, певуч и туго-упруг, как тетива боевого лука. Помню вечера у Асеева на Мясницкой в 1924–1925 г. Когда собирались свои: Пастернак, Брик, Синяковы, Мария и Вера,133 Кручёных, я — было очень уютно и весело, шумно. Давали чай с сандвичами — о, вкусный чай! и как, бывало, читали свои стихи за столом Асеев и Пастернак! Их собственные жены, привязанные, кажется, к ихним стихам,134
Кручёных, я — было очень уютно и весело, шумно. Давали чай с сандвичами — о, вкусный чай! и как, бывало, читали свои стихи за столом Асеев и Пастернак! Их собственные жены, привязанные, кажется, к ихним стихам,134 — шалели и пьянели от чтения, глаза становились пьяными, но какой пьянкой! Это был Дионисов пир, дионисов [бубен] и фиал!! Звон — звон, звон! Ей-ей, не вру, правда.
— шалели и пьянели от чтения, глаза становились пьяными, но какой пьянкой! Это был Дионисов пир, дионисов [бубен] и фиал!! Звон — звон, звон! Ей-ей, не вру, правда.
Стихи Асеева и ранние, и после, и теперешние — все почти до одного пронизаны этим пляшущим, скачущим, бегущим рьяно ритмом — значущим одно: любовь к жизни, движению жизни, вперёд и выше!
Его творчество никогда не было тем, что по старинке звали — да и теперь ещё кое-где в музеях и исторьях зовут аполитичным. Нет — это был дионис нового стиля, настоящий Денис Асеев ‹так!› наших дней. Какой дурак, кроме известных уже нам исторически по Раппу, серьёзно может думать, что перевыполняющий планы нашей стройки и рабочего дела ритм нашей сегодняшней жизни должен и может быть передан ямбическими или иными медлительными метрами? Даже классический плясовой хорей — один на один — не сможет, не в состоянии вынести наших ритмов — темпов: кишка слаба, дух выйдет вон! Чудаки, ваше неподобье!
Асеев, как и Маяковский: по-своему, также нашёл себя, свой модус вивенди135 получил именно в этом ритме.
получил именно в этом ритме.
————————
Примечания 1
1 Вступительная статья, публикация и комментарии были подготовлены Наталией Яковлевой и напечатаны в десятом номере биографического альманаха «Лица» (СПБ. , 2004). Интернетную версию см.: http://blogs.helsinki.fi/venajaavoiymmartaa/files/2012/11/Tihon-Churilin_NataliaJakovleva_Lica_Biograficheskij_almanah_Vyp_10-.pdf
Здесь мемуары Т. Чурилина и примечания Н. Яковлевой воспроизводятся в полном объёме (исключая вступительную статью), в мемуарный текст Чурилина (трудночитаемые черновики) внесены небольшие поправки по архивным источникам (РГАЛИ). Разночтения не оговариваются.
 2
2 РГАЛИ. Ф. 1222 (далее — Фонд Чурилина). Оп. 1. Ед. хр.38. Л.29.
 3
3 Ср. варианты названия ещё одного черновика: «Мои бытовые и рабочие встречи с Маяковским (сообщение)», а также «Маяковский. О встрече в порядке сообщения». — Там же. Л. 1–9; 30–34.
 4
4 Там же. Оп.2. Ед.хр.19. Л.5–6.
 5
5 Там же. Оп 1. Ед.хр.38; Оп.2. Ед.хр.19; Оп.3. Ед.хр.7.
 6
6 Ларионов Михаил Федорович (1881–1964) — художник; Гончарова Наталья Сергеевна (1881–1962) — художница, жена Ларионова.
 7
7 Якулов Георгий Богданович (1884–1928) — театральный художник, живописец.
 8
8 Чурилин употребляет всюду неправильное написание имени — ‘Велемир’. Исправление не производилось.
 9
9 Эльснер Владимир Юрьевич (1886–1964) — поэт и переводчик.
 10
10 Кожебаткин Александр Мелетьевич (1884–1942) — секретарь издательства «Мусагет» (1910–1912), в 1910–1923 — владелец издательства «Альциона». Два первых сборника стихов Эльснера «Выбор Париса» и «Пурпур Киферы» (1913) были изданы в «Альционе».
 11
11 В архиве Чурилина сохранился записанный на отдельном листе адрес: „Угол Большого Палашовск‹ого› и Трехпрудного д‹ом› Гончарова кв. 10. М.Ф. Л‹арионов›”. — РНБ. Ф. 1294. Ед. хр. 2. Л. 8.
 12
12 Кузнецов Павел Варфоломеевич (1878–1968) — живописец, график, театральный художник.
 13
13 Шевченко Александр Васильевич (1883–1948) — живописец, участник организованных Ларионовым выставок групп «Бубновый валет» и «Ослиный хвост», теоретик искусства (автор брошюр по неопримитивизму и кубизму, 1913), в дальнейшем — видный советский художник. Начало собраний художников группы «Ослиный хвост» на квартире Ларионова и Гончаровой в воспоминаниях Шевченко отнесено к 1911 году (см.:
Шалабаева В.Н. Александр Шевченко. Путь художника, Художник и время. М., 1994. С. 178).
 14
14 Ср. характеристику С.П. Боброва (1889–1971) — поэта, прозаика, критика, литературоведа — в черновом варианте воспоминаний: „С.П. Бобров, символяцкий критик с уклоном в какую угодно левую сторону, очень умная и злая собака и плохой поэт”. — Фонд Чурилина. Оп. 2.
 15
15 В 1908 Хлебников перевёлся из Казанского университета на физико-математическое отделение Петербургского университета, в 1909 перешёл на историко-филологический факультет, а в 1911, не закончив, оставил учебу.
 16
16 Поэма В. Хлебникова и А. Кручёных «Игра в аду», иллюстрированная литографированными рисунками М. Ларионова и Н. Гончаровой, вышла в октябре 1912. В варианте, хранящемся в музее Маяковского, название «Взял!» вычеркнуто (Там же. Оп. 1. Ед. хр. 38. Л. 3: Оп. 2, Ед. хр. 19. Л. 5. Имеется в виду изд.: Взял. Барабаны футуристов. Декабрь. Пг., ‹1915›). Ср. в черновом наброске воспоминаний Чурилина о Хлебникове:
Затем мы стали встречаться с ним у Ларионова и Гончаровой. Там его настиг и полонил Алексей Кручёных, тоже молодой, с очень подвижным составом всех частей: рук, ног, головы, языка, очень боевой и предприимчивый. Тогда же начало книжечек: Хлебников – Кручёных – Ларионов – Гончарова. Началось с «Игры в аду» и т.д. Работа кипела, весело, бодро ‹...› Хлебников, сразу нашедший свою среду, оживился, завеселился; завхозом всего был, конечно, Кручёных, при консультанте и соратнике, замечательном тогда боевике, художнике и товарище Ларионове. (Там же. Л. 5). 17
17 Московский Литературно-художественный кружок (1898–1919) первоначально объединял писателей-реалистов и таковым запомнился ряду мемуаристов более старшего, нежели Чурилин, поколения (Андрею Белому, Ходасевичу, Телешову и др.). Однако уже с 1906 в помещении Кружка по средам заседало Общество свободной эстетики (просуществовало до 1917), объединявшее московских поклонников “нового искусства”. Брюсов длительное время был одним из его руководителей, а с 1908 стал председателем дирекции и самого Литературно-художественного кружка. О посещениях Общества Чурилиным в 1909 свидетельствует его позднейшее письмо В. Брюсову от 16 мая 1912 (см.: РГБ. Ф. 386. Карт. 107. Ед. хр. 49).
 18
18 Ср. в черновом наброске:
Третье свидание было у него. ещё у меня он сказал за чаем, что хотел пойти на собрания Свободной Эстетики, его интересовал волк-Брюсов (Т. Ч. ). Я перед собранием, узнав от О.Ф. Г‹несиной›, которая была членом С‹вободной› Э‹стетики›, о дне, пошёл за ним. И далее:
Я сказал: сегодня в 9.30 Эстетика — пойдемте, вы хотели, — Да, я пойду, очень хорошо, вместе — только надо по полтиннику входных, иначе неловко, там люди тонкие. — А — да — у меня только полтинник — возьмите вы. — А вы? — Я не пойду. — Ну и я не пойду один. И мы остались.
(Фонд Чурилина. Оп. 2. Ед. хр. 19. Л. 6) Возможно, результатом этого посещения стало стихотворение Хлебникова, в котором пародийно обыгрываются имя любимого героя Чурилина Кикапу и название Литературно-художественного кружка (см.:
Виктор Хлебников. Отчет о заседании Кикапу-р-но-художественного кружка // Трое: Сборник. СПб., 1913, ‹С. 46›). К 1913, когда предположительно и произошёл упоминаемый в мемуарах случай, у Чурилина уже был написан ряд текстов, где присутствовал этот образ.
 19
19 Ср. в черновом варианте воспоминаний: „хозяин мой был виноторговец, союзник русского народа, ничего не подозревавший о том, что я был — революционер, подпольщик” (Фонд Чурилина, Оп. 2. Ед. хр. 19. Л. 5).
 20
20 Аллюзия на слова Репетилова, обращенные к Чацкому из комедии «Горе от ума» А. Грибоедова (действие IV, явление 4):
А у меня к тебе влеченье, род недуга,
Любовь какая-то и страсть,
Готов я душу прозакласть,
Что в мире не найдешь себе такого друга.
(Грибоедов А.С. Сочинения в стихах. Л,, 1987, С. 136). 21
21 Ср. его характеристику в черновом варианте воспоминаний: „И.Н. Кротова, молодого инженера, очень любившего поэзию и музыку” (Фонд Чурилина. Оп. 2. Ед. хр. 19. Л. 5).
 22
22 Ольга Фабиановна Александрова-Гнесина (1885–1963) — пианистка и музыкальный педагог, сестра М.Ф. Гнесина, с которым Чурилин тесно сотрудничал в 1930-е. См. его письма к М.Ф. Гнесину (РНБ. Ф. 1294. Ед. хр. 17), а также письмо М.Ф. Гнесина от 6 июля 1940 в Совнарком СССР с просьбой о помощи Чурилину. — РГБ. Ф. 2954. Оп. 1. Ед. хр. 288.
 23
23 Катя Л. — Екатерина Ивановна Ламакина, двоюродная сестра писателя, которая, в частности, упоминается в автобиографической “поэме” «Из детства далечайшего» и романе «Тяпкатань» (см. с. 446 наст. изд. ). Сохранилось письмо Чурилина к ней от 11 августа 1906 (РНБ. Ф. 1294. Ед. хр. 30), а также его завещание, где упоминается её имя:
Две тысячи рублей предоставить в распоряжение двоюродной сестре моей по матери Екатерине Ивановне Ламакиной как способ для достижений её цели к усовершенствованию и расширению кругозора её знаний, вместе с пожеланием успешного исполнения её желаний. (Там же. Ед. хр. 1). 24
24 Неустановленное лицо.
 25
25 Возможно, аллюзия на фразу из футуристического манифеста «Пощёчина общественному вкусу»: „стоять на глыбе слова ‘мы’”.
 26
26 «Доски судьбы» — сочинение Хлебникова, попытка создать философию истории, в основе которой лежало представление о цикличном развитии человечества и Вселенной, регулируемом определенным числом лет. Выходило тремя выпусками в 1922–1923.
 27
27 Ср. в черновом варианте:
Здесь надо сопоставить ‹?› настоящего Х‹лебникова› с Дмитрия Петровского рукоделия Велемиром — помните, в его воспоминаниях в №1 Лефа о В‹елемире›, там Х‹лебникове› выходит к нему в переднюю филипповскую, с жирными губами и чавкая.
Должно быть, Петровский был действительно голоден и в мыслях чавкал и мазал губы себе жиром, а также и Х‹лебников›у. Поганое дело делать из такого лица собственную морду. И далее, описывая готовность Хлебникова пожертвовать “полтинником” и отказаться от похода в Свободную эстетику, Чурилин возвращается к этой же теме:
Таков он был как товарищ, это — всегда. Как же мог он выйти к Петровскому с жирными губами, чавкая, и не накормить его?
Т.е. он не хотел кормить его филипповской едой, чужой. Эта инсинуация “последователя”, “выросшего” ученика (Шкловский) не должна бы забыться никем из действительно близких своих Хлебникову — а теперь Петровский котируется четвертым в нео-гамбургском счете т.т. Мирского, Маслина ‹?›, Шкловского etc. (Фонд Чурилина, Оп. 2. Ед. хр. 19, Л. 6).  28
28 От causerie (франц. ) — непринужденный разговор, беседа, светская болтовня.
 29
29 Ср. в черновом варианте:
Перешли в гостиную из столовой. О.Ф. (Ольга Фабиановна Гнесина. — Н.Я. ) стала играть Шопена, Шумана, Грига, Листа. Кручёных скучал, брызгал на О.Ф. ядом и всяким злом, а Велемир слушал, как никто, — он вбирал в себя музыку, а что она там делала, мы не знаем. О.Ф. играла оч‹ень› хорошо, но всё классиков, и Кручёных сбежал, забрызгав О.Ф. злом и ядом, — а Велемир остался и долго ешё слушал с нами классиков, ни его, ни нас они не раздражали. (Там же). 30
30 Имеется в виду стихотворение Чурилина «Конец Кикапу» (1914), особенно запомнившееся современникам. Ср. свидетельство Т. Лещенко-Сухомлиной, относящееся к более позднему времени: „Тихон Чурилин оказался тем самым поэтом, который когда-то написал «Кикапу», а мы с Милкой Волынской в 1922–1923 годах твердили эти стихи беспрестанно” (запись от 17 февраля 1941, см.:
Лещенко-Сухомлина Т. Долгое будущее: Дневник-воспоминания. М., 1991. С. 69.
 31
31 Шманкевичи Всеволод и Борис — поэты, участники двух сборников «Полистан» (М., 1914 и 1916), где были также помещены и стихи Чурилина.
 32
32 Глоба Андрей Павлович (1888–1964) — поэт и драматург.
 33
33 Сохранилось стихотворное письмо С.Я. Парнок к Чурилину от 12 мая 1932:
Тихону Чурилину
Как тесен нынче стол наш круглый, —
Почти как в космосе земля!
Столкнём стаканы, гость мой смуглый.
Люблю я дребезг хрусталя.
Довольно выть мне хмурой выпью...
За новый лад, за новый ритм!
Воскресший друг, дружнее выпьем
За все, что нам судьба дарит!
За то, что ты не обескрылен,
За сей крылатый твой возврат,
За то, что снова ты Чурилин, —
За жизнь, мой нареченный брат!
(Фонд Чурилина. Оп. 3. Ед. хр. 18. Л. 2) В последней строке стихотворения каламбурно обыгрывается название сборника «Жар-жизнь», готовившегося в это время.
 34
34 Ляндау Константин Юлианович (1890–1969) — поэт, театральный режиссер. Вместе с К. Лисенковым был одним из соучредителей издательства «Фелана», в котором в 1916 вышел «Альманах муз». Чурилин поместил в нем цикл стихотворений «Кроткий катарсис. Полная поэма».
 35
35 Куфтин Борис Алексеевич (1892–1953) — писатель, археолог, этнограф.
 36
36 Вермель Самуил Матвеевич (1892–1972) — режиссер, театральный деятель, писатель (сборник «Танки», 1915) и издатель (вместе с Д. Бурлюком выпустил сборник «Весеннее контрагентство муз», 1915).
С осени 1915 руководил Студией Искусства театра «Башня», где, помимо практических занятий по импровизации, танцу, пантомиме, живописи, музыке и даже жонглированию предполагалась теоретическая работа “о сущности гротеска эротики в искусстве”. В Студии «Башня» (Покровка, Малый Успенский пер. ) помещалась и редакция основанного Вермелем журнала «Московские мастера» (вышел один номер, весна 1916). Из перечисленных Чурилиным авторов там были опубликованы: стихотворения Н. Асеева «Выход эскадры» и «Донская ночь», два стихотворения В. Хлебникова («Эта осень такая заячья...», «Ни хрупкие тени Японии») и его рассказ «Ка». Чурилин был представлен вступлением к поэме «Яркий ягненок» и стихотворениями «Укромный ужин. Из книги «Март-младенец»» и «Первый грех». Здесь же была помещена рецензия Вермеля на сборник «Весна после смерти». Далее в тексте мемуаров он именуется “Самвермель” — возможно, это обусловлено тем, что “Сам. Вермель” было формой литературного имени автора (фигурирует на обложке сборника «Танки», подпись под рядом публикаций и т.д.).
 37
37 Петровский Дмитрий Васильевич (1892–1955) — поэт, прозаик и мемуарист.
 38
38 Вероятно, обыгрывается название краски «Зелень Веронезе».
 39
39 От fac totum (лат.). Здесь: человек, готовый выполнить любые поручения, проныра, всюду сующий нос.
 40
40 Имеется в виду персонаж романа Г. Уэллса «Пища богов» (глава «Гигантский мальчик»). См.:
Уэллс Г.Д. Собр. соч.: В 9 т. Т. 6. СПб.: Шиповник, ‹б/г›.
 41
41 „Эй, вы, небо, — снимите шляпу!” — цитата из поэмы В. Маяковского «Облако в штанах».
 42
42 Горбов Дмитрий Александрович (1894–1967) — литературный критик, прозаик, литературовед, позднее ведущий теоретик «Перевала».
 43
43 Драма «Последний визит» (1915), в основу центральной коллизии которой лег сюжет воскрешения “Тихона, Тимона, Тиши”, осталась неопубликованной (Фонд Чурилина. Оп. 1. Ед. хр. 33). Сохранился пригласительный билет (1916) на имя А.А. Шемшурина — на чтения драмы в помещении «Выставки О‹бщества›ва Художников «Бубновый Валет»» (РГБ. Ф. 339. Ед. хр. 10). Драма была одобрена и принята для экспериментальной постановки репертуарной комиссией Камерного театра (объявления см.: Рампа и жизнь, 1915, №18; Голос Москвы, 1915, №101, 5 мая; Московские мастера, 1916). Однако по неизвестным причинам постановка не состоялась.
 44
44 Грифцов Борис Александрович (1885–1950) — критик, переводчик, искусствовед и прозаик.
 45
45 Ярцев Петр Михайлович (1871–1930) — театральный критик, драматург, режиссер.
 46
46 Мозалевский Виктор Иванович (1889–1970) — прозаик.
 47
47 В архиве Чурилина сохранился датированный 25 февраля 1916 договор на бланке Московского Камерного театра за подписью А. Таирова, в котором значится, что Чурилин поступает актёром в театр на срок с 20 июля 1916 до Великого поста 1917; подпись Чурилина отсутствует (см.: Фонд Чурилина, Оп. 1. Ед. хр. 6, Л. 1–1об. См. также письма Чурилина к Таирову — РГАЛИ. Ф. 2030. Оп. 1. Ед. хр. 38).
 48
48 Коонен Алиса Георгиевна (1889–1974) — известная актриса Камерного театра. Сохранилось письмо Чурилина к ней, см.: Там же. Ф. 2768. Карт. 391. Ед. хр. 1.
 49
49 Соколов Владимир Александрович (1889–?) — актер, автор инсценировок.
 50
50 В 1926 г. Камерным театром была поставлена пьеса А. Глобы «Розита» (режиссер Таиров, декорации Якулова).
 51
51 Гельцер Екатерина Васильевна (1876–1962) — известная балерина, солистка Большого театра, близкая подруга Л.Ю. Брик.
 52
52 Имеется в виду «Вторая книга стихов» Чурилина (М., 1918).
 53
53 Имеется в виду Санталово — деревня в Новгородской губернии, в которой умер В. Хлебников.
 54
54 Имеется в виду Наталья Константиновна Звенигородская (1891–1982) — первая жена художника П. Митурича.
 55
55 См. примеч. 122.
 56
56 О Петникове см. примеч. 108.
 57
57 О Божидаре см. примеч. 122.
 58
58 Фрагмент, заключённый в угловые скобки, отсутствует в черновом тексте и внесен автором в вариант Музея Маяковского.
 59
59 Перцов Виктор Осипович (1898–1980) — советский литературовед, критик, автор книг о В. Маяковском. В 1940 вышло три книги, к которым имел отношение Перцов: Наш современник: О В.В. Маяковском; Маяковский: Материалы и исследования / Под ред. В.О. Перцова и М.И. Серебрянского; Маяковский В.В. Сочинения: В 1 т. / Под общей ред. Н.Н. Асеева, Л.В. Маяковской, В.О. Перцова и М.И. Серебрянского; Критико-биографич. очерк В.О. Перцова.
 60
60 Имеется в виду работа в должности главного литературного руководителя в Политуправлении 4-й армии, на Кавалерийских и Пехотных курсах имени Крымского центрального исполнительного комитета ВКП(б), в Окружной комиссии Ленинского коммунистического союза молодежи и желдорузле Комсомола.
 61
61 Известная квартира Н.Н. и К.М. Асеевых, в которой они поселились сразу после переезда в Москву из Читы в 1922 г. Описание квартиры на Мясницкой (позже — ул. Кирова) сохранилось во многих мемуарных и художественных текстах. См., в частности, рассказы Н. Асеева «Война с крысами» и «С девятого этажа» (
Асеев Н. Проза поэта. М., 1930. С. 64–76, 77–81). К.М. Асеева-Синякова позднее вспоминала:
В Москве на вокзале нас с Колей встретил Брик и отвез к Маяковскому, который на другой же день достал нам комнату во Вхутемасе на девятом этаже. Многие писатели описывали эту комнату и в стихах, и в прозе. Дверь в нашу комнату была из фанеры, окрашена мелом. Когда кто-нибудь из друзей и знакомых приходил к нам и не заставал дома, то оставлял свою подпись на белой странице двери. Так постепенно с течением времени почти вся дверь заполнилась автографами.
(Асеева К.М. Из воспоминаний // Воспоминания о Николае Асееве. М., 1910. С. 25–28.
Ср. также: Петровская О. Николай Асеев // Там же. С. 57–58;
Шкловский В. Крутая лестница // Там же. С. 87–88). 62
62 Синякова-Уречина Мария Михайловна (1890–1984) — художница. Сохранился написанный ею портрет Чурилина (Фонд Чурилина. Оп. 3. Ед. хр. 32), см. также набросок портрета в архиве А. Кручёных (РГАЛИ. Ф. 1334. Оп. 2. Ед. хр. 493). В квартире на Мясницкой у Асеевых жила в это время сестра М.М. Синяковой — Вера. Ср. в воспоминаниях О. Петровской: „Асеевы жили в колоссальной комнате вместе с Верочкой, одной из сестер Синяковых, впоследствии ставшей женой писателя Гехта. Все называли её “Гоген” — за лицо, очень похожее на лица таитянок с полотен художника” (
Петровская О. Николай Асеев. С. 58). В.М. Синяковой посвящено стихотворение Чурилина, вошедшее во «Вторую книгу стихов» (М., 1918).
 63
63 Гехт Семён Григорьевич (1903–1963) — советский писатель. Муж В.М. Синяковой.
 64
64 Имеется в виду первая жена писателя Евгения Владимировна Пастернак (урожд. Лурье; 1898–1965) — художница: в начале 1920-х училась во ВХУТЕМАСе.
 65
65 Гонта-Петровская Мария Павловна — актриса, сценаристка, журналист. Печаталась в журнале «Прожектор», газете «Красная звезда». Автор воспоминаний о Пастернаке, (См.:
Гонта М. Мартирик // Воспоминания о Борисе Пастернаке. М., 1993. С. 232–237). Ср. упоминание в мемуарах Е.Б. Черняк, относящееся к 1922 году:
Мы с Яшей пришли (в гости к Пастернаку. — Н.Я. ] вместе с поэтом Дмитрием Петровским и его женой Марийкой (Мария Гонта). Они жили недалеко от нас, в Мертвом переулке. Странная это была пара. Петровский — неистовый поэт и человек. В гражданскую войну он примыкал к анархистам. Говорили — убил помещика, кажется, своего же дядю. Был долговяз, и создавалось такое впечатление, будто ноги и руки у него некрепко прикреплены к туловищу, как у деревянного паяца, которого дергают за веревочку. Стихи у него были иногда хорошие, но в некотором отношении он был графоман.
(Черняк Е.Б. Пастернак. Из воспоминаний // Воспоминания о Борисе Пастернаке. М., 1993. С. 128). 66
66 Вероятно, речь идет не о лете 1925, когда Маяковский находился за границей (май — ноябрь), а о предыдущем лете, которое он вместе с Бриками проводил в Пушкино под Москвой. Там было написано знаменитое стихотворение «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче (Пушкино, Акулова гора, дача Румянцева, 27 верст по Ярославской жел. дор. )». См.: «Маяковский В.» Полн. собр. соч.: В 13 т. М., 1956. Т. 2. С. 35–38.
 67
67 Корвин-Каменская Бронислава Иосифовна (?–1945) — художница, ученица К. Коровина. Письма Чурилина к ней см.: РНБ. Ф. 1294. Ед. хр. 29. Иногда упоминается как Чурилина (см.: Выставки советского изобразительного искусства: Справочник. М., ‹1965›. Т. 1: 1917–1932). См. также рецензию на выставку её картин, представленную на поэтическом вечере Чурилина в Симферополе 7(20) мая 1920: Досифей. Вечер Тихона Чурилина // Таврический голос (Симферополь), 1920, №224, 12(25) мая. С. 2; перепеч.:
Крусанов А. Русский авангард: В 2 т. М. 2003. T. 1. C. 274–275.
 68
68 Речь идет о мае 1924.
 69
69 Из заграничного путешествия Л. Брик привезла скоч-терьера Скотика; ср. в письме к В. Маяковскому от 14 апреля 1924: „Кроме того все советуют купить в Англии, потому что там их родина (басаврюков) и есть из чего выбирать. Так что жди нас вдвоём!” (опубл.: В.В. Маяковский и Л.Ю. Брик, Переписка 1915–1930 / Сост., подгот. текста, введение и коммент. Б. Янгфельдт. Stockholm, 1982. С. 121). В неопубликованной драме Чурилина «Здорово, Цезари!» под кличкой Скотт выступает собака англичан Буманнов (см.: Каталог действующих лиц. — Фонд Чурилина, Оп. 1. Ед. хр. 36, Л. 6).
 70
70 От distingué (франц. ) — благовоспитанный, с хорошими манерами, элегантный.
 71
71 Синякова-Асеева Ксения (Оксана) Михайловна (1900?–1985) — жена Н.Н. Асеева.
 72
72 Кушнер Борис Анисимович (1888–1937) — поэт, один из основателей ОПОЯЗа, в 1918–1919 сотрудничал с Бриком и Маяковским в ИЗО Наркомпроса. Репрессирован. В отредактированном варианте Музея Маяковского его фамилия убрана автором.
 73
73 В Гендриковом пер., 15 Брики и Маяковский жили с апреля 1926 по 1930.
 74
74 Ср. в письме Л.Ю. Брик к В. Маяковскому от 12(?) июля 1926 из Ялты: „Мы живем роскошно, весело и разнообразно: по понедельникам у нас собираются сливки литературной, художественной, политической и финансовой Москвы — Тихон Чурилин, Перцов, Малкин, Гринкруг!!” (В.В. Маяковский и Л.Ю. Брик, Переписка 1915–1930 ‹...› С. 152).
 75
75 Такого произведения у известного поэта-лефовца Семёна Исааковича Кирсанова (1906–1972) не обнаружено. Скорее всего, имеется в виду стихотворение «Мэри-наездница» (1925); см.:
Кирсанов С. Опыты: Стихи М.: Л., 1927. Вероятно, Чурилин ошибочно приводит название позднейшего (1929) сборника стихов Н. Асеева «Цирк» (с рисунками М. Синяковой). Чтение С. Кирсанова, возможно, запомнилось ещё и потому, что стихотворение строилось на фонетической игре и звукоподражаниях. Ср. в воспоминаниях Лавинской: „Помню также появление мальчика Кирсанова на Гендриковом. Приехал он прямо из Одессы, выглядел юношей лет семнадцати-восемнадцати ‹...› Читал блестяще свои стихи и восторженно смотрел на Маяковского” (
Лавинская Е.А. Воспоминания о встречах с Маяковским // Маяковский в воспоминаниях родных и друзей. М., 1968. С. 360). Судя по записи, сохранившейся в архиве Чурилина, С. Кирсанов признавал влияние последнего на свою поэзию:
С другим, тоже настоящим, но современным молодым поэтом — Семёном Ис‹ааковичем› Кирсановым у меня был такой разговор (кажется в 1926 г. ) по поводу его раннего отличного стиха, помещенного в Юголефе, «Красноармейский разговор»:
„Хорошие, говорю, это у вас стихи, Семён Кирсанов”.
„Да, неплохие, ведь я у вас учился, Т.В.”
„Спасибо, говорю, за честь — а стихи независимо от сего — отличные”.
Тут Семён Кирсанов отличился.
„Ничего, — говорит он страшно гордо, — но это шерстяное изделие. Носки. А надо, — чтоб было — шёлковое отличное”.
Ах, чудак человек Семён Кирсанов! Вы недовольны — шерстяными носками?! Милый человек, у нас до сих пор ценится портянка, самая настоящая есенинско-васильевская. ‹...›
Так что отличные „шерстяные носки” всё-таки большой прогресс. Куда культурнее.
(РНБ. Ф. 1294. Ед. хр. 14. Л. 21). Имеется в виду, видимо, стихотворение Кирсанова «Красноармейская разговорная» (1924) (см.:
Кирсанов С. Опыты. С. 49–52).
 76
76 Имеются в виду слова из рефрена «Песни червонных казаков» Д. Петровского: „Чекувамбыр — вамбимбир / Вамбумбир...” (ЛЕФ. 1924. №1: вошло в кн.:
Петровский Дм. Червонное казачество, М. ; Л., 1928. С. 24, 25).
 77
77 Название неопубликованного романа Чурилина, где под этим вымышленным именем описан родной город поэта Лебедянь.
 78
78 См. примеч. 41.
 79
79 Бескин Осип Мартынович (1892–1969) — художественный критик.
 80
80 Строчки из стихотворения «Конец Кикапу» (1914). Ср.: „Часто трагически, и не в шутку, а всерьёз он (Маяковский. —
Н.Я. ) читал Чурилина:
Помыли Кикапу в последний раз.
Побрили Кикапу в последний раз”. См.:
Брик Л. Чужие стихи // Маяковский в воспоминаниях современников. М., 1963. С. 344.
 81
81 Ср. в варианте Музея Маяковского: „Да я совсем никак не пишу — и не буду!”.
 82
82 «Бюллетени Государственного издательства» — информационно-библиографическое издание, выходившее под разными названиями с 1921 по 1940.
 83
83 Здесь и далее в квадратных скобках воспроизводятся фрагменты, отсутствующие в варианте воспоминаний, хранящемся в Музее Маяковского, и вычеркнутые в варианте РГАЛИ.
 84
84 Накоряков Николай Никандрович (1881–?) — заведующий торговым отделом Госиздата, с июня 1932 директор ГИХЛа. Автор воспоминаний, см., например:
Накоряков Н. 1) Зачинатель новых путей советского книгоиздательства // Отто Юльевич Шмидт; Жизнь и деятельность. М., 1953; 2) На заре советской книготорговли: Странички из воспоминаний // Издательское дело. 1927. №11.
 85
85 Видимо, имеется в виду поэма «Рассказ о дезертире» (М., ГИЗ, 1921).
 86
86 От casus belli (лат. ) — повод к войне.
 87
87 Отто Юльевич Шмидт (1891–1956) — директор Госиздата с 1921 по 1924, позже главный редактор «Большой советской энциклопедии».
 88
88 На Кузнецком мосту располагался ряд учреждений и магазинов Госиздата. Кроме того, там находились кафе, которые посещала московская богема, в том числе кафе «Питтореск», расписанное Г. Якуловым и другими художниками.
 89
89 Кто имеется в виду, установить не удалось.
 90
90 В частности, в газете «Красный Крым» была опубликована статья Чурилина о Всеволоде Иванове, см.:
Чурилин Т. Новая Крепь. Всеволод Иванов // Красный Крым. 1922, №139(469), 25 июня. С. З; №153(483), 12 июля. С. 3. Однако судя по остальным характеристикам, сообщаемым автором (например, публикация “вещи” в ЛЕФе и проч.), речь идет не о нем. Не исключено, впрочем, что Чурилин совмещает ряд сведений, касающихся разных лиц.
 91
91 «Воспоминания о Велемире Хлебникове» Д. Петровского первоначально были напечатаны в журнале «ЛЕФ» (1923, №l), вышли отдельным изданием (М., Огонек, 1926) и были перепечатаны в сб.:
Дмитрий Петровский. М., 1929.
 92
92 Отсутствие Л. Брик, вероятно, объясняется кризисом их отношений с Маяковским, во время которого (с декабря 1922) они не встречались в течение двух месяцев.
 93
93 Ашмарин (наст. фам. Ахрамович; 1882–1930) Витольд Францевич — литератор, кинематографист.
 94
94 Вероятно, имеется в виду Третьяков Сергей Михайлович (1892–1939) — поэт (с 1921 — член группы «Творчество»), прозаик, драматург, журналист. Репрессирован. По всей видимости, его арест в 1937 году и последовавший затем расстрел как шпиона имел большое значение для ближайшего окружения ЛЕФа, в редакции которого он работал в 1923–1924, а позднее, после ухода Маяковского из «Нового ЛЕФа», стал фактическим редактором журнала. Кроме того, по свидетельству его дочери, при аресте Третьякова погиб или был изъят архив журнала, который собирала его жена, литературный секретарь «Нового ЛЕФа», О.В. Гомолицкая, арестованная вслед за мужем (См.:
Гомолицкая-Третьякова Т.С. О моём отце // Третьяков С. Страна — перекресток: Документальная проза. М., 1991. С. 554–563). В архиве Чурилина сохранился пригласительный билет (1924) Московского Пролеткульта на генеральную репетицию “новой постановки” «Противогазы» (Фонд Чурилина. Оп. 1. Ед. хр. 11). Очевидно, речь идет о написанной для Театра Пролеткульта пьесе С. Третьякова с тем же названием, премьера которой состоялась 29 февраля 1924.
 95
95 От alter ego (лат.).
 96
96 Редакционно-издательский отдел.
 97
97 Намёк на эпизод из воспоминаний Петровского о Хлебникове:
И последним приветом его мне, последним жестом и взмахом платка “оттуда”, из времени, куда унёс его корабль, была коротенькая надпись на моём портрете у Кручёных: „Где твой кроваво-радужный жупан. Сего разбойника добре знаю…”
(Дмитрий Петровский. С. 47). 98
98 Лавинская Елизавета Андреевна (1901–1950) — художница, автор «Воспоминаний о встречах с Маяковским».
 99
99 Семёнова Е.В. — художник, оформитель, примыкавшая к группе ЛЕФ. Работала в архитектурной мастерской Ладовского, Кринского и Докучаева, печаталась в «ЛЕФ’е» под псевдонимом “Вхутемаска” (см. о ней:
Лавинская Е.А. Воспоминания о встречах с Маяковским. С. 353).
 100
100 Ср. высказывание Чурилина о Петровском в письме к Г. Петникову от 17 ноября 1942:
В качестве смешного без великого — около табашно-водошного сенса вдруг появился калликатура Хлебникова и Ваша, вновь фениксом пострелом поспел вездесующийся Митька Шансон-Малорусc, он же Вамбер — вамбера — Петровский. Как дермо гусино-петушье он всегда выплывает наверх — иже везде сый и вся наполняйя! ‹...› Впрочем, с г...ном шутить и нельзя: вот, примером, голубиное гуано — ежели да на хороший огород — то гарбуз дюже добрый буде (организаторам огорода!!!) (РНБ. Ф. 1294. Ед. хр. 24, Л. 3).  101
101 «Современная архитектура» — журнал группы конструктивистов, выходил с 1926 по 1930. Из трех братьев Весниных ведущую роль в журнале играл Александр Веснин (1883–1959) — ведущий советский архитектор-конструктивист. А. Веснин работал также как театральный художник, в том числе в Московском Камерном театре. Теоретиком и пропагандистом конструктивистского функционализма в журнале был архитектор М.Я. Гинзбург (1892–1946).
 102
102 Цитата из «Левого марша» В. Маяковского.
 103
103 Гиляровский Василий Алексеевич (1876–1959) — психиатр, академик АМН СССР (1944), заслуженный деятель науки РСФСР (1936). С 1917 заведующий кафедрой психиатрии медицинского факультета МГУ.
 104
104 Фонд Чурилина. Оп. 3. Ед. хр. 7.
 105
105 От mot (франц. ) — словечко, острота.
 106
106 Неточные цитаты из поэмы «Руслан и Людмила» и стихотворения «Эхо» А.С. Пушкина, а также из стихотворения А. Кольцова «Лес».
 107
107 Этот фрагмент воспоминаний отчасти повторяет идеи Чурилина о литературе и искусстве, излагавшиеся в статьях 1922 года, в период его сотрудничества в газете «Красный Крым». Подобные идеи излагались и в коллективном некрологе Хлебникова. Ср.:
Он был борцом и далее в своем творческом пути: первый в русской молодой поэзии нашёл он, развил и показал Единый свободный размер стихов — песни, вывел стих из мертвой, уже стоячей воды классических размеров: ямба, хорея, амфибрахия и т.д., показав на деле, что стих есть прежде всего свободная песня и что, если законы нашей теперешней жизни движение / динамика, то и размер стиха-песни должны не покойно застыть, стоять на одном месте, а быть в движении, меняться, течь — как текут живые воды, реки, моря.
(Чурилин Т., Курзин М., Корвин-Каменская Б. Велемир Хлебников
(Борец, изобретатель-производственник, вождь) // Красный Крым. 1922. №154(484), 13 июля С. 3). 108
108 Петников Григорий Николаевич (1894–1971) — поэт и прозаик. Ему посвящена «Вторая книга стихов» (М.: Лирень, 1918). Оформление обложки сборника Петникова «Поросль солнца» (М., 1918) принадлежит Корвин-Каменской. Письма Чурилина к нему см.: Фонд Чурилина. Оп. 3. Ед. хр. 16; РНБ. Ф. 1294. Ед. хр. 24.
 109
109 Вероятно, имеется в виду неустановленное высказывание известного советского поэта и идеолога соцреализма А.А. Суркова (1899–1983). Не исключено, впрочем, что оно могло принадлежать также будущему советскому критику и театроведу Е.Д. Суркову (1915–1988).
 110
110 Цитата из стихотворения Ф.И. Тютчева «О чём ты воешь, ветр ночной?» (начало 1830-х).
 111
111 Ср.:
Хлебников был настоящим языковедом (учёным лингвистом), но он не обратил своих знаний в археологию, в музей, — нет, в своей творческой лаборатории, мастерской — просто, в своем изобретательном мозгу, упорно искал он и изобретал новые и новые оживления, освежения слов, их укрепления в производстве, — и если он не был признан старой академической учёной знатью, не принимающей ничего живого и революционного, то даже и они в лучших своих единицах ценили его, как знатока языка. Таким был известнейший учёный-филолог и поэт Вячеслав Иванов.
(Чурилин Т., Курзин М., Корвин-Каменская Б. Велемир Хлебников...) 112
112 Ср. в “поэме” «Из детства далечайшего»: „Анна Австрийская раскинувши руки свои, давно брошенная, нечитаемая, — а читатель чудно как-то убегает из дому — диковинно...” (
Чурилин Т. Из детства далечайшего: Главы из поэмы. Любовь // Полистан. М., 1916, С. 91).
Анна Австрийская — королева Франции. Персонаж трилогии А. Дюма, вероятно, имеются в виду «Три мушкетера».
 113
113 Имеются в виду известные критики и писатели С.В. Яблоновский (наст. фам. Потресов; 1870–1953/54) и В.М. Дорошевич (1865–1922).
 114
114 Светлов Валериан Яковлевич (наст. фам. Ивченко; 1860-1935) — прозаик, очеркист, драматург, редактор журнала «Нива».
 115
115 От maison du peuple (франц. ) — народный дом, клуб.
 116
116 Курт Абир, Курт Теймпль, Август Штрамм (Stramm; 1874–1915) — представители немецкого футуризма. Альберт Эренштейн (Ehrenstein; 1866–1950) — немецкий поэт-экспрессионист австрийского происхождения. Ряд переводов Чурилина вошёл в антологию немецкой поэзии, редактором которой был Г. Петников: из К. Хейнеке (Kurt Heynicke) — «Человек», «Рассвет»; А. Штрамма — «Сон»; А. Эренштейна — «Вечернее озеро». См.: Молодая Германия: Антология современной немецкой поэзии. Б/м.: Гос. изд. Украины, 1926.
 117
117 Имеется в виду статья О.М. Брика «Поэт, каких немного» (см.: Фонд Чурилина. Оп. 3. Ед. хр. 31).
 118
118 Неустановленное лицо.
 119
119 Источник этого высказывания неизвестен; возможно, это устное сообщение Зоргенфрея.
Зоргенфрей Вильгельм Александрович (1882–1938) — поэт, переводчик.
 120
120 Е.И. Ламакина, о ней см. примеч. 23.
 121
121 Чурилин приводит цитату из указанной статьи О. Брика «Поэт, каких немного».
 122
122 Божидар (Богдан Петрович Гордеев; 1894–1914) — поэт, теоретик стиха, член «Центрифуги», один из основателей литературно-издательской группы «Лирень», «Распевочное единство» (М.: Центрифуга, 1916) — стиховедческая книга Божидара, вышедшая посмертно, под редакцией и с предисловием С. Боброва.
 123
123 В 1930-е творчество “народных сказителей” пользовалось особым вниманием властей и было приспособлено к нуждам момента. Об этом свидетельствует обширная издательская практика. См., например: Песни ашугов о Ленине и Сталине. Баку, 1939; Песни ашугов Азербайджана / В пер. Ю. Баласанова и С. Иванова. Баку, 1936; Избранные песни армянских ашугов, исполняемые ансамблем ССР Армении под руководством артиста Ш. Тальян / Пер. ‹В. Брюсова и Ф. Коган›. Пояснения. Выдержки. М., 1930. Ср. также свидетельство А. Авторханова, приводимое Л. Флейшманом:
Особенной выспренностью в то время отличалось “народное” поэтическое творчество о Сталине, которое преподносилось от имени кавказских и туркестанских поэтов и певцов. Тюркское слово ‘акын’ и кавказское слово ‘ашуг’ (народный певец) впервые вошли в словарь русского языка в те годы именно из-за стихов о Сталине. Ставшие тогда знаменитыми на весь Советский Союз казахский 90-летний акын Джамбул или 15-летний дагестанский ашуг Сулейман Стальский были совершенно неграмотными людьми, а им приписывали не только стихи, но и целые поэмы о Сталине — в полном соответствии с «Кратким курсом истории» ‹...›
(Флейшман Л. Борис Пастернак в тридцатые годы. Jerusalem, 1984. С. 283–284) 124
124 Константин Романов, великий князь (1858–1915; псевдоним “К.Р.” ) — поэт.
 125
125 Якубович Петр Филиппович (1860–1911; псевдонимы “П.Я.”, “Л. Мельшин”) — поэт, прозаик и переводчик. Неоднократно печатался в изданиях журнала «Русское богатство».
 126
126 Здесь в нескольких абзацах Чурилин отчасти воспроизводят свои рассуждения из статьи «Хлебников Велемир», опубликованной в 1922 в газете «Красный Крым». Статья вышла с редакционным примечанием: „Редакция считает эти утверждения слишком смелыми и категоричными” (см.:
Чурилин Т. Хлебников Велемир // Красный Крым. 1922. №157 (487), 16 июля. С. 3). Ср.:
Он (Пушкин. — Н.Я.) изобрёл, развил и усовершенствовал русское поэтическое слово ‹...› Но со дня рождения Пушкина прошло сто уже лет. ещё и ещё потом появлялись поэты, крупные и мелкие, ложные и настоящие, но переизобрести Пушкина, сделать что-то впервые новое с поэзией слова, так-таки никому не удалось. Поэзия крепко была заключена в строгие классические рамки, размеры, метры стиха: от ямба начал — ямбом кончил ‹...› поэзия с Пушкина до наших дней была статической, т.е. не движущейся, а стоячей.
Хлебников впервые после Пушкина в России дал нам показательные творческие образцы движения стиха, а не его покойное, стоячее, статическое состояние. У него каждый стих имеет все размеры: и ямб, и хорей, и амфибрахий, и спондей — в одном и том же стихотворении, и это организуется им в постепенном переходе размеров в другие, в живом течении, как в реке проточной всего стиха. Стих жив в движении, он движется вперёд, как сама жизнь! ‹...› Это, товарищи, закон, вновь открытый Хлебниковым: песня-стих движется в перемене размера всё время, как сама жизнь.
Закон распевочного единства, ибо в прежние времена народ, творя свои песни — стихи, — пел их голосом, а Хлебников поёт их работой, жизненно меня<я> в движении мертвые прежде размеры.
(Там же) 127
127 На этом текст обрывается.
 128
128 „Правда, есть у нас Асеев Колька, Этот может. Хватка у него моя”, — строка из стихотворения В. Маяковского «Юбилейное» (
Маяковский В. Полн. собр. соч. Т. 6. М., 1957. С. 53).
 129
129 Из запланированных трех книг Новалиса были выпущены только две, обе в переводе Г. Петникова: «Фрагменты» (Кн. 1 М., 1914) и «Цветень» (Кн. III. М., 1915). В издательстве «Лирень» вышли чурилинские «Вторая книга стихов» и повесть «Конец Кикапу» (М, 1918). Каменский Василий Васильевич (1884–1961) — поэт, прозаик, драматург, авиатор. В издательстве «Лирень» вышли первые два номера «Временника».
 130
130 Асеев находился на Дальнем Востоке в 1917–1921 гг.
 131
131 В августе 1922, вслед за Асеевыми, в Москву переехало большинство участников группы «Творчество»: В. Силлов, О. Петровская, В. Пальмов, П. Незнамов, С. Третьяков. О. Петровская с мужем В. Силловым первое время жили на Мясницкой у Асеевых (см.:
Петровская О. Николай Асеев. С. 57).
 132 Асеев Н.Н.
132 Асеев Н.Н. Песня. М.: Огонек, 1931.
 133
133 М. Синякова-Уречина (см. примеч. 62) и Вера Синякова (в замужестве Гехт; 1895–1973) — две из пяти сестер Синяковых, из которых ещё одна, Ксения (1893–1985), была замужем за Асеевым.
 134
134 В частности, один из поэтических сборников Н. Асеева вышел под названием «Оксана» (1916) с посвящением „Ксении Михайловне Синяковой”.
 135
135 От modus vivendi (лат.).
Заглавное изображение заимствовано:
Todji Kurtzman (b. 1970 in San Francisco, US).
Mandinga De Capoeira. 2008. Bronze. 6×6×11 feet.
Иллюстрации в тексте: Гончарова Н.С. (1881–1962).
Из книги Т. Чурилина «Весна после смерти».
Бумага, литография. 215×180 см. Коллекция В.С. Геворкяна.
Благодарим В.Я. Мордерер за содействие web-изданию


![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
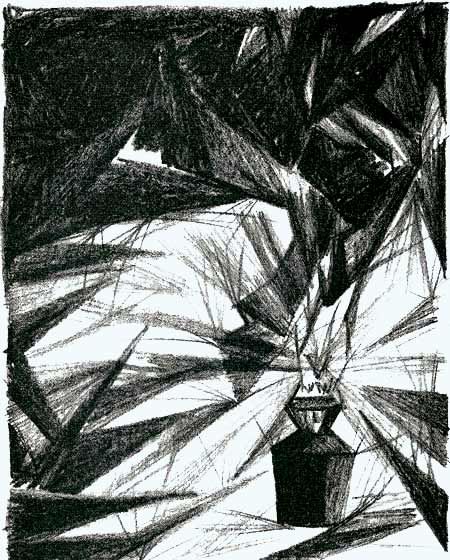 Встречался я тогда с Велемиром Хлебниковым — редко, но ценил его правильно и любил его певчий край — очень, сильно любил. Бывал я также у Вячеслава Ивановича Иванова, вместе с молодыми символяцкими старичками, которые около меня тогда вертелись и ютились. Головой я уже был — вперёд, а ноги всё ещё вязли в декадансе и символизме. Оттого вышедшая в 1915 г. моя первая книга недружелюбно была встречена Маяковским и боевым авангардом русского футуризма. Я рефлекторно тоже невзлюбил тогда Маяковского. Видеть его дело и творчество тогда я не видел — как надо, и в отношении совсем нового дела русской поэзии была у меня тогда — куриная слепота. Каюсь публично.
Встречался я тогда с Велемиром Хлебниковым — редко, но ценил его правильно и любил его певчий край — очень, сильно любил. Бывал я также у Вячеслава Ивановича Иванова, вместе с молодыми символяцкими старичками, которые около меня тогда вертелись и ютились. Головой я уже был — вперёд, а ноги всё ещё вязли в декадансе и символизме. Оттого вышедшая в 1915 г. моя первая книга недружелюбно была встречена Маяковским и боевым авангардом русского футуризма. Я рефлекторно тоже невзлюбил тогда Маяковского. Видеть его дело и творчество тогда я не видел — как надо, и в отношении совсем нового дела русской поэзии была у меня тогда — куриная слепота. Каюсь публично.![]()
 С большим чувством уважения и благодарности пишу я здесь о том, что этот деловой контакт принес мне большую пользу во всей моей работе, и с настоящим удовольствием заявляю, что он сохранился до сего времени и продолжает приносить пользу моему творческому делу и поныне. Факт, а не реклама. У Н.Н. Асеева, в его жилье на Мясницкой61
С большим чувством уважения и благодарности пишу я здесь о том, что этот деловой контакт принес мне большую пользу во всей моей работе, и с настоящим удовольствием заявляю, что он сохранился до сего времени и продолжает приносить пользу моему творческому делу и поныне. Факт, а не реклама. У Н.Н. Асеева, в его жилье на Мясницкой61![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
 Мы получили приглашение прийти на завтра в воскресенье обедать; в это воскресенье на даче собиралась редакция «Лефа». С утра мы отправились в Акулово. Туда съезжались уже лефы. Прибыл Н.Н. Асеев с Оксаной Михайловной,71
Мы получили приглашение прийти на завтра в воскресенье обедать; в это воскресенье на даче собиралась редакция «Лефа». С утра мы отправились в Акулово. Туда съезжались уже лефы. Прибыл Н.Н. Асеев с Оксаной Михайловной,71![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
 Родился в семье лебедянского купца 2‹-й› гильдии Василия Ивановича Чурилина как его единственный сын и наследник. Но и эта единственность и наследование оказались призрачными. Уже подростком 15‹-ти› лет я знал от тётки, сестры моей покойной матери, что я не сын В.И. Чурилина, а мой отец — еврей, провизор, и что я — плод любви, на самом деле то, что в народе называется ‹2 нрзб›, а русскими: выб....док.
Родился в семье лебедянского купца 2‹-й› гильдии Василия Ивановича Чурилина как его единственный сын и наследник. Но и эта единственность и наследование оказались призрачными. Уже подростком 15‹-ти› лет я знал от тётки, сестры моей покойной матери, что я не сын В.И. Чурилина, а мой отец — еврей, провизор, и что я — плод любви, на самом деле то, что в народе называется ‹2 нрзб›, а русскими: выб....док.![]()
![]()
![]()
 Ещё в мои студенческие годы, особенно так к окончанию их, я серьёзно ознакомился с русским символизмом и декадентством. В 1918 г. за границей, в Лозанне, где я “совершенствовал” себя во французском языке, я, пользуясь библиотечкой русского Мезон Попль,115
Ещё в мои студенческие годы, особенно так к окончанию их, я серьёзно ознакомился с русским символизмом и декадентством. В 1918 г. за границей, в Лозанне, где я “совершенствовал” себя во французском языке, я, пользуясь библиотечкой русского Мезон Попль,115![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
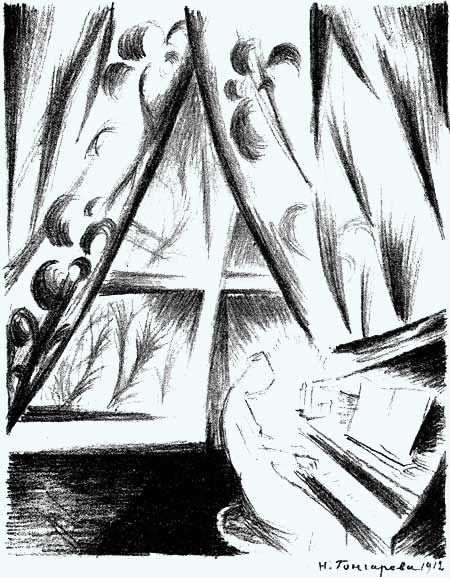 Надо рассказать тем, кто будет читать эти строки, — в чём тут зарыта собака? Собака зарыта в воде, которая течёт, если она не прудовая, не озерная, не болотная. Речная и Морская вода течёт — и в этом вся суть. Вспомните изумительное Гераклитово древнее откровение (открытие) — „Всё течет”. Т.е. всё, что течёт (движется) есть жизнь. Всё, что стоит — есть смерть или анабиоз (полу-смерть).
Надо рассказать тем, кто будет читать эти строки, — в чём тут зарыта собака? Собака зарыта в воде, которая течёт, если она не прудовая, не озерная, не болотная. Речная и Морская вода течёт — и в этом вся суть. Вспомните изумительное Гераклитово древнее откровение (открытие) — „Всё течет”. Т.е. всё, что течёт (движется) есть жизнь. Всё, что стоит — есть смерть или анабиоз (полу-смерть).![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
 Петниковский «Лирень», книгоиздательство крошечное, как ноготь на мизинце возлюбленной — поэзии, было в свое время замечательным по чистоте отбора издаваемых им: Хлебников, Божидар, Асеев, Петников, Новалис — и потом в конце своей жизни и даже в огне революции — Тихон Чурилин. Потом — Хлебниковские «Временники» — боевые бюллетени русского футуризма — редколлегия: Хлебников, Петников, Асеев, Каменский Василий.129
Петниковский «Лирень», книгоиздательство крошечное, как ноготь на мизинце возлюбленной — поэзии, было в свое время замечательным по чистоте отбора издаваемых им: Хлебников, Божидар, Асеев, Петников, Новалис — и потом в конце своей жизни и даже в огне революции — Тихон Чурилин. Потом — Хлебниковские «Временники» — боевые бюллетени русского футуризма — редколлегия: Хлебников, Петников, Асеев, Каменский Василий.129![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()