

 осковские впечатления, превратившись в воспоминания, всё чаще рисуют моему воображению человека с раздёрганными движениями, хмурым исподлобья взглядом и выражением простодушной скуки в брезгливой гримаске около губ. Он — поэт — интеллигент — журналист — литератор! Это универсальный тип, шныряющий между учреждениями, сотрудничающий в самой замечательной из всех рекламных фирм, имя коей РОСТА... Завсегдатай редакций, официозов — любитель бума — и референт всяческих диспутов.
осковские впечатления, превратившись в воспоминания, всё чаще рисуют моему воображению человека с раздёрганными движениями, хмурым исподлобья взглядом и выражением простодушной скуки в брезгливой гримаске около губ. Он — поэт — интеллигент — журналист — литератор! Это универсальный тип, шныряющий между учреждениями, сотрудничающий в самой замечательной из всех рекламных фирм, имя коей РОСТА... Завсегдатай редакций, официозов — любитель бума — и референт всяческих диспутов.Завсегдатай Дома печати, иногда его действительный член, он — таинственный организатор бесчисленного множества макулатурных вечеров с участием “виднейших” и пр., пр., пр.
Но, как только мне померещится это существо с живописным букетом не слишком приятных свойств и качеств, тотчас на память приходит его pendant: щуплый, усталый и ободранный — в противоположность щеголеватому референту-прогрессисту — „тоже интеллигент”... с опущенным долу взором поруганной невинности. Его специальность — шепоток в руку. Этот желчный пасквилянт ничем не доволен, ничего не делает и, числясь на вполне фантастической должности, вдохновенно распространяет сплетни.
Словом, обитатель синекуры — нереального бытия...
Единственное, что сближает щеголеватого с ободранным — не знаешь, кто из них тебе больше противен. Да ещё вот что: первого снедает скука, а второго желчь... и оба весьма охотно пожирают свой паёк (широко распространённое национальное блюдо)!
Словом, таков универсальный тип современной Москвы: выпотрошенная и вывернутая наизнанку душа, смердящая „мерзостью запустения”... (Нет! Мне их не жалко!)
Но это ещё цветочки! Ягодки — битых четыре сотни поэтов внутри групп и вне таковых: все великие, все гениальные! Молодые люди и девицы всевозможных мастей: молодая Россия! (Увы.) Больше о них нечего сказать — мычащее стадо! (Как известно, для изображения повседневной рутины художнику без громадного таланта не обойтись.) И только. Разновидности неинтересны. Это экспрессионисты, ничевоки, неоклассики — и тому подобное в этом роде. Имя им легион. Мозгляки, духовные нули — они заняты словоблудием — и только. Я решительно не приемлю эту ораву “подвижников слова” (ни малейших угрызений совести!)... А между тем, далёк от того, чтоб вместе с этими уродцами выплеснуть поэзию сегодняшних дней и искусство, нам современное... Впрочем, мне тебе об этом говорить не надо.
Дело весьма серьёзно. Все эти усевшиеся в «Литературных особняках», «Дворцах Искусств» и прочих кабаках словоблуды и беспардонные плагиаторы претендуют на представительство современного искусства, они смеют говорить — и часто говорят — от его имени. Хуже того — кое-кто из настоящей живой молодёжи заживо гниет в этих клоаках городского бреда. И погибает, вот что страшно.
А между тем, налицо и проблески света на мрачном небосклоне. Даже ненавистные публике школки запускают подчас в небо неожиданные аэропланы... Взлетят фейерверком — и гаснут строки поэта “Божьей милостью”, оставив чувство стыда и досады.
По-прежнему из молодых на слуху несколько имён, близких и дорогих — они для тебя не будут новостью: во-первых, Маяковский, во-вторых — Сергей Есенин. Чем-то влечёт к себе и “трудный” Пастернак Борис: я ещё до конца не продумал этого!.. В трагикомическом положении находятся “пролетарские поэты”. Воистину младенцы, эти подчас талантливые и живые люди принуждены играть непотребную роль оракулов и пифий новой культуры. Сами понимают, что толку не будет — но положение обязывает, и выкидывают такие фортели порой, что диву даёшься!
Этот патент на абсолютную монополию в области “истинно нового” и официальное презрение к прошлому не обладает и намёком на убедительность и дерзость футуризма. Так, жалкая диффамация. А среди них ведь и В. Казин (чудесный поэт) и В. Александровский — этот бредёт под двойным небом Блока и Маяковского, но всё же подчас весьма интересен, и Герасимов — полуинтеллигент-полурабочий, выдохшийся и скучноватый, и много других, у которых есть и талант, и живое чувство, и только одно дурное: скверное нетерпение и тщеславие неудавшихся пророков с непомерными претензиями.
И, наконец, — если тебе покажут: “имажинисты”! — не верь!, просто — „семья жуликов с папой Шершеневичем”, но среди них Сергей Есенин — и — „они делают полные сборы”... Есенин, между прочим, написал чудесную «Исповедь хулигана»... По-настоящему хорошо!..
Таковы молодые. По совести, мне жалко, что я ругался — все они тоскуют по настоящему слову, мучаются нищетой и духовной и житейской... бродят унылыми тенями с мечтой о забвении — и усердно пишут такие же нищие, как они сами, стихи. И последнего, как хочешь, я простить не могу! Один Маяковский непомерно вырос, и хоть он враждебен мне, делает — не могу не признать — огромное дело... Но на то он и не талант, а целое талантище! Мерзавец — настоящий грузовоз мастерства! А дело он делает — тезисы — такое: агитация — область искусства. Художник — участник производства не в переносном, а прямом смысле слова — должен работать на заказ в прямом и принципиальном (заказ времени) смысле слова. Ergo — пиши то, чего требует массовая агитация и пропаганда. Увы, такое гигантское дело (оно увлекательно!) может осилить лишь тот художник, который чувствует себя настолько мастером, что может в элементарнейших (массовых!) формах делать свое художественное дело. Очевидно, Маяковский осуществляет его пока хорошо — в блестящем одиночестве. Мысль его не лишена соблазнительности — молодёжь воротит нос от “вульгарных” (“фи!”) политических частушек, лозунгов, сатир и героических поэм. (Между прочим, его тезисы, будь они осуществлены, были бы недурной дезинфекцией и дезинсекцией от насекомых, имя которым... но пощадим!, „имя Господне не называйте всуе”...) Сам же он, как говорят, живёт преспокойно — и иногда я думаю: уж не злостный ли блеф все его выступленья в защиту агитационного искусства... блеф или даже кое-что похуже... Обещаю тебе, между прочим, при первой возможности достать преинтересное «Солнце» Маяковского.
На диспутах в Политехническом музее, в Доме печати и т.д. Маяковский изумителен. Остроумный, умница вообще, сообразительный и быстрый, подчас громыхает таким mots, что пляшешь от восторга. Особенно остро зрелище столкновений Маяковского с Луначарским, этим гениальным полемистом, скверным поэтом и занятной декорацией для Наркомпроса. Столкновенья кончаются обыкновенно вничью, причём противники кроют друг друга почём зря!.. чем публика бывает весьма довольна!.. Но оставим в покое и Маяковского, и молодых, и “типы” Москвы, и самого Луначарского. В конце концов, не в этом суть...
Ведь дело не в том, что дискутируется такой, например, вопрос: “партийная дисциплина и художественное творчество” (это всё на тему о соотношении быта и психологии и раздвоения коммуниста-художника на две, так сказать: слишком “неравные” половины, — а выражаясь прямо: о том неприятном казусе, когда человек “нового коммунистического общества” оказывается, когда делает свое художественное дело, — прокисшим насквозь буржуа — казус действительно не из приятных).
Есть человек в этой бредовой комедии марионеток, который приковывает моё вниманье: Андрей Белый.
Он вернулся из Петербурга ещё в октябре 1920 года, тогда я и встретил его неожиданно на улице по дороге на диспут о “преемственности культуры”, в котором тоже принимали участие “виднейшие”... между прочим, Вячеслав Иванов и Бор. Ник.
И тогда же на улице, когда я заглянул в его глаза, светлые с яркими точечками зрачков, глубокие-глубокие, с лучинками возле углов их, лучинками, создающими странное впечатление пристальности и отдалённости взгляда, я почувствовал к нему какую-то почти любовь...
Мне хочется даже подробно описать его. Мне запомнились: его высоко забегающий лоб, пушистые — каждый отдельно — и тонкие волосы, светящиеся и хрусткие, и быстрый и нервный трепет рук, восхитительная жестикуляция, проницающая тебя до самой твоей души!.. И всякая встреча с ним, как с первого взгляда, дышет двойственностью... И близкий и пристальный, и далёкий, ледяной, чужой... И при всём этом у него горячий голос!.. ‹...›
Его искания нового сознанья — говорю тебе — огромны и значительны. Об этом, конечно, в двух словах не расскажешь, — но я знаю, что за такое дело человечество чтит своих сынов!.. Я инстинктивно чувствую, подходя к этому человеку, что у него внутри в чудовищно сложном ритме непрерывно вертятся маховики, ходят зубчатые колёса, бегут ремни, работает колоссальный механизм, не останавливаясь, работает, работает, работает... так, что больно слушать, и тяжело начинает биться сердце, поспевая за странным ритмом его духа... Это ощущение моё — болезненное до ясности, повторялось и тогда, когда я пришёл послушать отрывки из «Эпопей» — грандиозного последнего произведения Белого. «Дворец искусств» — читал сам Борис Николаевич — слушал — и росла уверенность в том, что это настоящее... Та же волшебная колдовская жестикуляция, тот же полёт духа, чувствующийся в каждом жесте... Истинно говорю тебе — Гость — здесь на земле. Летит глазами, сердцем, словом — чудеснейшая минута — видишь всё это, и у самого захватывает дух, и шевелятся крылья!..
А в ноябре я слушал его речь о Толстом. И было странно — до чего вдруг трогательно: он закрыл лицо руками и говорил сквозь тонкие, белеющие и трепещущие ладони, а толпа смущённо усмехалась праздная! — она пришла „послушать!”... Вот отрывочные впечатления о нём — мне пока не хочется рассказывать остального, что знаю...
Приезжал из Петербурга Ремизов, приезжал из Петербурга Сологуб, приезжал из Петербурга Чуковский, приезжал из Петербурга Блок...
Читали лекции, устраивали вечера, получали деньги и уезжали обратно... Об этих я только слышал, и как-то не пришлось быть самому; с некоторыми я разминулся (был в Витебске), а других — не хотел слушать... Третьих не успел.
С Сологубом познакомился, но он промелькнул мимо моего сознания — я, как бы сказать, едва успел заметить грузного старого человека бородавкой на щеке.
Но культурная жизнь, о которой я говорю, и не исчерпывается вовсе наездами петербургских гостей — у нас в Москве есть свои!.. (Гордо: Замечательные люди-с! Выдающиеся!) Вот свои и барабанят митинги и лекции и диспуты — это первое. Второе это студии — или иначе — „бич божий...” Студии пластики, драмы. Студии литературные и музыкальные, студии... студии... Сколько их! Откуда эта орда? Дело объясняется просто. Книги нет. Театр недоступен. Концерт почти тоже — по крайней мере, хороший — остаётся: умирать с тоски или, или — идти в студию, конечно...
От безделья, от тягот материальной жизни, от холода и скуки, от нищеты духовной тысячи и тысячи паломников пришли в студию. Студия заменяет ресторацию, игорный дом, притон и прочие развлечения! Теперь понимаешь? Все занимаются искусством. И само искусство спешно уезжает из Москвы, тревожно собирая монатки и мечтая об италийской беспечности. И над всем этим стоит стон от долетающих из всех углов России восторженных вздохов: О, Москва! Москва! — Глубина культурной жизни! Красота! Творчество!
Даже такие как Эренбург покидают Крым со всеми его прелестями и мчатся, рискуя головой, кружным путём — в Москву, чтоб, походив месяца два с видом преображенного, снова вернуться к старой носогрейке ехидных размышлений о бренности всего земного и снова удивленно говорить о „странном несоответствии представлений и действительности”!
Так что же хорошего во всём этом? А вот что, родная моя Ли!.. Отдельные, живя в величайшие дни, молча по большей части, проходят сквозь эти годы, и в глубине не оскоплённого духа творят огромную работу — таков Гершензон, Белый, Бердяев; таков, быть может, при всём его похабстве Маяковский. Таковы — несколько единиц из молодых поэтов, они — это настоящая культура, и то пока они не делают всего этого вслух. Невидимо творятся сейчас космического величья культурные ценности — они зреют в глубине настоящих, не марионеточных душ. А всё остальное — грязная пена на безнадёжном базаре — пляж культуры!.. (А пляж на море!)
Что из всего этого?.. Надо молчать и трудиться и беречь ростки возрастающего в тебе. Иного пути сейчас нет... Надо молчать и крепко работать над своим художеством — потаенно и скромно и непретенциозно! Кого-нибудь судьба сподобит!.. ‹...›
В газетах появилось сообщение о том, что к 50-летию В.Я. Брюсова, исполняющемуся в декабре этого года, ему предполагается пожаловать звание “народного поэта”. Я думаю, что среди всех нелепостей, которыми нынче богата литературная и общественная жизнь эта будет — выдающейся по глупости. Брюсов — вот уж действительно — поэт не народный, не национальный, весь какой-то не русский. И ему-то выпадает честь, которой Россия ему не предоставляла. “Награжденье” — дело никому неведомых верхушек. ‹...›
‹...› Д. Петровский мне много рассказывал о Хлебникове. X. был славянофилом, участником студенческой академической корпорации (“белоподкладочники” — черносотенцы и жидоеды); во время войны такой случай: Пет-ий с Х-вым где-то на вокзале. Эшелон немецких пленных. П. хочет им дать коробку папирос. X. хватает его за плечо и говорит резко, как всегда глотая слова: „Не см-ть да-ать папир-ос не-цам. Они — враги. Я с Вами поссорюсь”. Тот дал и не одну, а обе свои коробки. Насилу к вечеру помирились. Не разговаривали целый день. Смотрел архив Хлебникова у Н.О. Коган (архив его вообще чрезвычайно распылён: у Р. Якобсона, у Маяковского, у Петровского, у Митурича с комп. (Коган и др.). В архиве меня заинтересовали письма к Хлебникову: Матюшина, Н. Николаевой (серьёзная привязанность X.) и письма (открытки) X. домой. Из письма Н. Николаевой запомнил такую фразу „...Маяковский (свинья, которой Бог случайно дал рога...)”. По поводу ненависти Николаевой к Маяковскому Петровский рассказал неприличный анекдот про него из времён 13-ого года...
Любопытны очень рисунки Х-ва и всякие бумажки, подклеенные им в тетради. Например: наверху кусочек бумаги наклеен поперёк; напечатано на нём „скука девы старой”, под клочком небольшой картон (размером посткарт) с карандашным рисунком: пейзаж, едва можно разобрать, гора, человечек сидящий, и рядом с ним, но отдельно посох, несоразмерно большой. Внизу надпись: Вячеслав Иванов. Городецкий сразу разобрал, (я не мог), в чём дело.
П-ий рассказывает: смотрю его альбом как-то и вижу, наклеен лист бумаги — чистый, как бы страница из книжки, только без печати. Думаю — что такое? Приподнял край с обратной стороны: в самом деле стихи — спрашиваю Хлебникова, — Это Вы зачем? — А как же, стихи Северянина — их в альбом надо, — а видеть вот неприятно, я и наклеил их вот так. ‹...›
‹...› В декабре разыгралась пьяная скандальная, и в конце концов тоже патологическая история с поэтами Серёжей Есениным, Клычковым и Орешиным. Фамилию четвёртого я даже не упомнил. Их судили за дебош и жидоедство в пьяном виде. О Есенине на суде (товар. суд Союза раб. печати) говорилось столько мерзостей, дурных интимностей и пошлостей, что трудно вспоминать. Душа Есенина предстала мне вдруг начинённой такой достоевщиной, разгулом, беззаконием — стихийными, последовательными в своей стихийности; но в то же время все истории его житейски наполняют таким омерзением, таким угнетающим чувством негодования, что я внутренне весь разорвался. Что ж это такое? Сила таланта его — громадна. Коренится этот талант в той самой стихийности, о которой я говорил выше, а житейски приводит эта стихийность его к сплошной блевотине. Тяжкий быт. Отвратительный быт. ‹...›
В редакции часто бывает Д.В. Петровский — поэт; пишет историю “червонных казаков” — в стихах — и «Очерки партизанщины», которые заключают в себе и личные воспоминанья и материалы, собранные им летом этого года в специально для собирания материалов этих предпринятой поездке на Украину (в Черниговщину и др.). Оказалось, что мы в разное время были в одних и тех же местах с той же братвой. Я удивился, услышав от него столь хорошо мне знакомые имена: Наум Точёный, Легко-Копытов, Покинь-борода, Щорс, Дубовой и ещё и ещё. Очень занятно рассказывает — передо мной прямо ожила Украина 1919–1920 гг.; когда я участвовал с “богунцами и таращанцами” в безумной и вольной, богатой анекдотами и величавой эпопее крестьянской революции. Вспоминаю и всё жуткое и тупое, что тогда пришлось видеть и пережить! Как чуднó! Только четыре года — а вспоминается будто история, глубокая древность — нет — как нечто чужое и непонятное, не бывшее... только не вспоминать! 9-ый полк и Штаб и Политические Отделы Дивизии, Армии. Потянет вдруг к этой кочевой жизни, зажжётся увлекающее чувство общения с этим замечательным и жутким людом и потопит всю тяжкую кровавую прозу, которой всегда богата и очень богата и очень страшна, та оправданная пережитая полоса событий...
| Передвижная Выставка современного изобразительного искусства им. В.В. Каменского | ||
| карта сайта | 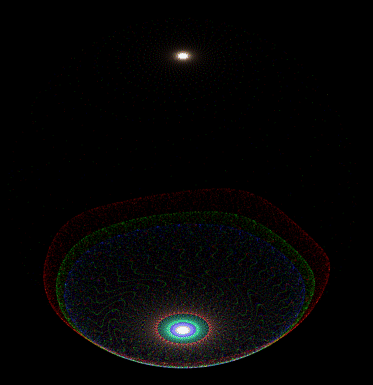 | главная страница |
| исследования | свидетельства | |
| сказания | устав | |
| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||