

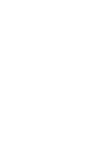 оспоминания Вадима Баяна посвящены одной из самых интересных, можно сказать, авантюрных страниц истории русского футуризма — турне по городам России в конце 1913 – начале 1914 гг. Это было время расцвета движения. После скандальных диспутов, выставок и премьеры спектаклей “Первых в мире футуристов театра”, состоявшейся в первых числах декабря 1913 года в Петербурге, футуристы отправились из поверженных столиц на завоевание провинций. Некоторый опыт таких выступлений был у Игоря Северянина. К нему и обратился начинающий поэт-эгофутурист Вадим Баян с предложением устроить поэтические вечера на своей родине, в Крыму. Состоявшиеся в Симферополе, Севастополе, Керчи гастроли получили название Олимпиады российского футуризма.
оспоминания Вадима Баяна посвящены одной из самых интересных, можно сказать, авантюрных страниц истории русского футуризма — турне по городам России в конце 1913 – начале 1914 гг. Это было время расцвета движения. После скандальных диспутов, выставок и премьеры спектаклей “Первых в мире футуристов театра”, состоявшейся в первых числах декабря 1913 года в Петербурге, футуристы отправились из поверженных столиц на завоевание провинций. Некоторый опыт таких выступлений был у Игоря Северянина. К нему и обратился начинающий поэт-эгофутурист Вадим Баян с предложением устроить поэтические вечера на своей родине, в Крыму. Состоявшиеся в Симферополе, Севастополе, Керчи гастроли получили название Олимпиады российского футуризма.Так писал мне Игорь Северянин из Петербурга в Крым в декабре 1913 года.1![]()
В эту осень футуристы всех разновидностей, без различия направлений, единым фронтом вышли на бой со старым миром искусства, а наиболее активная часть во главе с Игорем Северяниным организовала турне, чтобы громко пронести по городам России свои идеи. По лихорадочному тону письма уже прославленного в то время Северянина и по бешеному вою газетных статей было видно, что в литературу пришёл какой-то “небоскрёб”, который своим появлением повысил температуру общества. В это время Маяковский уже грохотал в Харькове2![]()
![]()
Пожар футуризма охватил всю наиболее взрывчатую литературную молодёжь. Хотелось культурной революции и славы... Воспалённые поэты, по мере своих материальных возможностей, метались по стране, жили в поездах всех железных дорог и на страницах всех газет.
Находясь наполовину в Петербурге, штаб-квартиру в то время я имел в Симферополе, где жила моя мать. Организацию турне товарищи возложили на меня, и отправным пунктом нашего литературного похода я эгоистически избрал Симферополь, куда я приехал из Петербурга отдыхать после кипучей работы по подготовке к выходу в свет в издании «Т-ва Вольф» моей книги «Лирический поток».
От предложения Северянина меня залихорадило, тем более что идеолог нашей группы, “директор” «Петербургского глашатая» Иван Игнатьев, который должен был выступать с докладом «Великая футурналия», косвенно уведомил меня о предполагавшемся самоубийстве (в начале декабря он писал „если я умру, память мою почтите вставанием”, а 20 января — зарезался). И, конечно, не пополнить группу такой крупной силой, как Маяковский, было бы непростительной ошибкой. ‹...›
За десять дней до нашего выступления, а именно 28 декабря старого стиля, в 11 часов утра, по прибытии с севера курьерского поезда, у меня в квартире раздался настойчивый звонок, и в переднюю бодро вошли два высоких человека: впереди, в чёрном — Северянин, а за ним весь в коричневом — Маяковский. Чёрного у него были только глаза да ботинки. Его легвом — Маяковский. Чёрного у него были только глаза да ботинки. Его лёгкое пальто и круглая шляпа с опущенными полями, а также длинный шарф, живописно окутавший всю нижнюю часть лица до самого носа, вместе были похожи на красиво очерченный футляр, который не хотелось ломать. Но... Маяковский по предложению хозяев быстро распахнул всю свою коричневую “оправу”, и перед нами предстала худая с крутыми плечами фигура, которая была одета в бедную, тоненькую синюю блузу с чёрным самовязом и чёрные брюки, и на которой положительно не хотелось замечать никаких костюмов, настолько личная сила Маяковского затушёвывала недостатки его скромного туалета. Он был похож на Одиссея в рубище. По ту сторону лица таились пороховые погреба новых идей и арсенал невиданного поэтического оружия. В теле Маяковского к этому времени уже не осталось ни одного юношеского атома. С виду это был совершенно развившийся мужчина лет двадцати пяти, хотя на самом деле ему было всего только двадцать. Его тяжёлые, как гири, глаза, которые он, казалось, с трудом переваливал с предмета на предмет, дымились гневом отрицания старого мира, и весь он был чрезвычайно колоритен и самоцветен, вернее — был похож на рисунок, который закончен во всех отношениях. В общем, этот человек носил в себе огромный заряд жизненной силы и поистине „трёхкамерное сердце”, как он сам сказал о себе. Гости наполнили мою квартиру смесью гремучего баса Маяковского с баритональным тенором Северянина, и если Северянин весь излучается лирикой, то за Маяковским нахлынуло целое облако каких-то космических настроений. Маяковский говорил чрезвычайно красочно и без запинок. Во рту этого человека, казалось, был новый язык, а в жилах текла расплавленная медь. Чувствовалось, что именно этот поэт по-настоящему ранит нашу обленившуюся эпоху. Северянин бывал у меня и раньше и чувствовал себя как дома, а Маяковский вообще не знал, что такое “дома” и “не дома”, в нём светился тот “гражданин мира”, который в проекте у строителей коммунизма. С первой же минуты нашего знакомства мы заговорили на одном языке, а после завтрака, перейдя в мой рабочий кабинет, уже включились в обсуждение повестки текущего дня и программы будущих выступлений. Это историческое совещание по вопросу реорганизации нашего турне носило почти фантастический характер. Наше общее кипение не поддавалось описанию. Перекрёстный огонь предложений был неповторим. Мы зарылись в хаосе самых сногсшибательных предложений, — нам предстояло выработать маршрут, очертить облик наших выступлений и создать крепкую группу выступающих. Маяковский, крупно шагая, всё время быстро ходил взад и вперёд по комнате. Наконец, когда неразбериха предложений достигла апогея, он решил продиктовать:
— Я предлагаю турне переименовать в Первую олимпиаду футуристов и немедленно вызвать Давида Бурлюка.
Он тут же сел за стол и начал составлять основной текст афиши (рукописи Маяковского у меня сохранились, и я содержание предложенной им афиши привожу в точности). Спотыкаясь пером по бумаге, он написал следующее:
Вслед за афишей он написал бесхозяйственную по размерам телеграмму Бурлюку в Херсон5![]()
![]()
Стоит ли говорить, какой поднялся вой в редакциях местных газет, когда мы распространили по городу свою программу, включив в неё и тезисы доклада Игнатьева о „механическом потомстве”, о „дыре Корнея Чуковского” и о „вентиляторе бесконечности”... Газеты уже не раз сообщали о „грозящем нашествии футуристов” и предостерегали публику не ловиться на удочку „этих шарлатанов”. Моё чисто случайное невыступление на вечере студентов, где я обещал выступить, они преподносили как факт, характеризующий всех футуристов. Надо сказать, что мнение общества к приезду футуристов “обрабатывалось” всеми находившимися в то время в Симферополе литераторами. Против футуристов в городе профилактически был проведен целый ряд докладов и диспутов, на которых оставалось только решить, какую кличку дать футуризму — Шарлатанство или Жёлтый дом. Противофутуристические прививки сделались обязанностью словесников всех учебных заведений.
Все это вместе взятое сильнейшим образом поставило нас в оппозицию, а больше всех того, на чьих плечах было больше груза. Выслушав информацию устроителя, Маяковский сказал:
— Чем хуже, тем лучше.
И тут же повернул разговор в сторону прогулочного путешествия по наиболее характерным местам Крыма, чтобы размотать свободное время, которое, казалось, нескончаемой полосой легло между нами и выступлением.
В этот год Крым завалило небывалым снегом. Мороз доходил до десяти градусов. Крым, казалось, перелицевался в северный край. Но несмотря на то, что он утратил свой колорит и потерял свою специфичность, поэты неудержимо рванулись в Ялту. Прославленная ласковость этого уголка влекла к себе даже Маяковского. Зарядив себя солидным авансом, взятым под турне, мы решили немедленно осуществить свою поездку. Правда, я предупреждал товарищей о том, что Ялта зимой “не в своей тарелке”, но разве их удержишь? В три часа того же дня, переваливая через горы и долины, чёрный лимузин по белому шоссе чертил исторические зигзаги. Зарываясь носом в сугробы, он пыхтел и рычал, как какое-нибудь чудовище. В гудящей машине рядом со мной сидел Маяковский, клокотавший стихами всех поэтов, а визави в откидном кресле — галантный Северянин. Голос Маяковского, запертый в лимузине и смешанный с гудением автомобиля, казался гудящим откуда-то из космоса. Осколки вдохновения его слились в чудовищный конгломерат и живут в моей памяти поныне, то сверкая, то дымясь, то гудя, как колокол.
Интересная деталь. Когда при отъезде из Симферополя Маяковскому предложили шубу, чтобы он не простудился в своем тоненьком летнем пальто, он категорически отказался:
— У меня трёхкамерное сердце: мне даже в Москве не холодно, а в Крыму тем более.
После привала в Алуште, скосившись на Гурзуф и обогнув Аю-Даг, автомобиль вонзился в замороженную Ялту. Непривычный к холоду город свернулся и ушёл в свою раковину. На улицах ни души и никаких признаков жизни. Остудившись в нетопленой гостинице (хотя нам лучше было бы обогреться), пошли искать людей, искать впечатлений, но ни людей в полном смысле этого слова, ни общественных мест в Ялте не было. Был только один чёрствый городской клуб, в котором были, на наш взгляд, какие-то уроды, но и туда нас не пустили, как не членов клуба. Мы насели. Вышел к нам подслеповатый человек с огромной медной цепью на шее, надетой в виде хомута, оказалось, что это старшина клуба. Вцепились в этого старшину, так и так, мол, хотим потолкаться и на ялтинцев посмотреть.
— Мы не можем пропустить в клуб неизвестных людей, — прохрипел подслеповатый старшина.
— Да мы люди очень известные, — возразил Маяковский.
— Вас кто-нибудь здесь знает?
— Нас знает вся Россия, — рассчитывая на культурность старшины, сказал Маяковский.
— Видите ли, хозяин гостиницы «Россия» не является членом нашего клуба, и его рекомендация не может нас удовлетворить, — применяя свой масштаб мышления, ответил ограниченный человек.
Мы прыснули и отвернулись.
— Если тут все такие, то нам тут делать нечего, — вполголоса пробасил нам Маяковский.
А когда мы вышли из калитки на улицу, он “наложил” на Ялту краткую, но выразительную “резолюцию”:
— Скушно, как у эскимоса в желудке.
Щелкать зубами в гостинице мы согласились только до утра, а с наступлением рассвета автомобиль выхватил нас из этой мертвечины и благополучно доставил обратно в Симферополь.
Окинув глазом оклеенный нашими анонсами Симферополь, мы устремились в Бахчисарай по железной дороге.
Этот живописный летом белый городок, зажатый между двумя небольшими горами, зимой выглядел таким же банкротом, как и Ялта. Ханский дворец был заперт, а это — почти единственная достопримечательность, которой в то время промышлял Бахчисарай. Единственное место, где можно было “отвести душу”, — это шашлычная, но ведь нельзя же все время есть шашлыки! Наперекор всему пошли искать красок этого легендарного уголка, но, обшарив город, ничего не нашли, кроме угнетающей тишины. Редкие прохожие, черневшие как изюминки в ситном, ничего не могли объяснить нам, так как говорили только по-татарски, а мы татарского языка не знали. Нам хотелось завыть. Тогда к вечеру некий одноглазый человек для утешения посоветовал нам осмотреть кладбище, но эта достопримечательность нас не устраивала, так как мы искали красок жизни, а не смерти.
— Давайте удирать из этого склепа! — предложил Маяковский.
Мы согласились, но тут восторжествовало мнение, что, когда удираешь из склепа, то ноги подламываются: бросились на вокзал — ни одного поезда на Симферополь до самого утра, бросились в город — ни одного шофёра с автомобилем, — есть либо шофёр без автомобиля, либо автомобиль без шофёра, словом, всё оказалось на зимнем положении. Наконец, в полночь отыскали в постели одного захудалого шофёра, у которого был автомобиль, но... не было бензина.
— Достаньте в аптеке бензин — повезу, — сказал он.
Бросились в аптеку. Аптекарь спал мертвецким сном, да и весь Бахчисарай уже переваливал на вторую половину ночи. Мы с Северяниным пришли к заключению, что неудобно будить аптекаря, но Владимир Владимирович возмутился.
— Что значит “неудобно”?!! Скажу, что у меня живот болит, и мне нужна касторка, а заодно и бензину попросим.
Он начал дергать за скобку двери. Дергал бодро, без всякого подхалимства перед спящим человеком. Насмерть перепуганный аптекарь, вышедший к нам в одном белье, был похож на покойника, вставшего из гроба. Стиль “мёртвого” Бахчисарая был настолько выдержан, что даже Маяковский не сразу заговорил. Аптекарь, дрожа частью от холода, частью от нашего визита, заявил, что бензину у него только одна бутылка. Мы зашагали на вокзал. Следующей нашей жертвой был дежурный по станции. Маяковский насел на него, как коршун на цыпленка, с требованием паровоза, который мог бы, хотя бы в кочегарке, довезти нас до Симферополя (в те времена практиковался отпуск паровозов с одним или двумя вагонами граждан за деньги).
Под напором Маяковского дежурный запросил Севастополь о присылке паровоза, но Севастополь ответил отказом, и мы, подмятые безвыходным положением, ушли в буфет и переключились на турецкий кофе, который пили до самого утра.
В Симферополе нас ждала неприятность: грозный полицмейстер, услышав гудение “возмущённой общественности”, вызванное свежими газетными плевками в сторону футуристов, и опасаясь столкновения на почве обструкции, афиши не подписал, а потребовал представления в письменной форме всех речей, которые должны были произноситься на вечере по столь экстравагантным тезисам. Это было равносильно запрещению, так как Маяковский своей речи ещё не сочинял, а Бурлюка и совсем не было, — были у нас переписаны только доклад Игнатьева и стихи. Помертвевший устроитель предложил воспользоваться какой-либо протекцией, но это было невозможно — никакие протекции футуристам не могли бы помочь, так как в корректность футуристов в то время никто не верил. Выход был один: это — двинуть Маяковского на полицмейстера, так как только его изворотливость и остроумие могли спасти положение. Для пополнения депутации, которая состояла пока только из одного Маяковского, выбрали меня. Игоря оставили в качестве невыброшенного козыря. Спешно одели Маяковского в сюртук Северянина, надели ненавистные ему манжеты, упросили его быть “корректным”, и депутация отправилась. Когда мы пришли в дурно пахнущее, как дореволюционная казарма, полицейское управление, посреди огромной комнаты огромный полицмейстер поедом ел каких-то оборванных людей, клянчивших у него какое-то удостоверение. Из выкриков полицмейстера можно было сделать заключение, что эти люди мучат его целых две недели, а из умоляющих реплик просителей выходило, что он их мучит на протяжении такого же срока. Раскалённый злобой полицмейстер плескался, как железо, доведённое до белого каления. Мы сели у двери на дряхлой скамейке и стали ждать окончательной разрядки полицмейстера. Слушать чужую ругань, не принимая в ней никакого участия, было ужасно скучно, а думать, что эта сцена испачкает полицмейстеру настроение, было ещё хуже. Но не отступать же перед начатым делом. Когда полицмейстер закончил бешеным плевком свой отказ и ушёл в кабинет, мы сняли пальто и попросили доложить о нас. Войдя в кабинет, мы основательно укололись о штыки полицейских глаз, но магические сюртуки заставили полицмейстера встать, подать нам руку и предложить сесть. Взнузданный голос Маяковского, согретый необычайной внутренней теплотой, окутывал полицмейстера целыми облаками заверений в том, что идея футуризма заключается не в организации скандалов, а в насаждении новой культуры. Красноречивые выкладки и замысловатые тезисы тяжёлым грузом насели на неподготовленную голову полицмейстера. Под влиянием такой обработки из полицмейстера поползло доверие. Я видел удивительный случай гипноза: рычащий лев на моих глазах превратился в кроткого ягненка. Полицмейстер задушевным голосом, с придыханием, сказал, широко разводя руками:
— Я вам все разрешу, только сделайте так, чтобы не было скандала. На вечере будет губернатор. А может быть, и сам корпусной командир.
Афиша была подписана, а на другой день, будучи расклеена, она уже приводила в бешенство симферопольских граждан.
Поездка в Бахчисарай отбила у нас охоту путешествовать по Крыму зимой, и мы решили осесть в Симферополе, хотя до выступления у нас было ещё восемь дней и заполнить их было нелегко. Присутствие моей матери у меня в квартире стесняло молодых людей, которые положительно ни в чём не хотели себе отказывать, поэтому Маяковский с Северяниным решили переселиться в гостиницу. Новые авансы из кассы устроителей позволили взять самый большой номер в Европейской гостинице, тем более, что Маяковскому для постоянного хождения взад и вперед требовалась большая квадратура, и утром 31 декабря поэты со всеми своими мечтами, стихами и картонными коробками перебрались в гостиницу, квартала за три от моей квартиры. Между тем на Симферополь надвинулась встреча Нового года. Куда бы ни пошёл, всюду натыкаешься на Новый год. Очутившись в объятиях Нового года, мы решили пойти в Дворянский театр на грандиозную встречу этого “гостя”, знаменитого 1914 года, с ужином, тем более, что нам хотелось посмотреть, как артист Колпашников, загримированный, по совету Маяковского, под автора, подаст со сцены моё стихотворение «Мой триумф». Оно ставилось заключительным номером новогодней программы, частью как ответ на злобу дня по случаю приезда футуристов, частью потому, что вообще было популярно в это время.
Посмотрев инкогнито, в пальто, из дверей третьего яруса на моего двойника с волнистой прической, за которую меня, к слову сказать, всегда пилил Маяковский, упрекая в „излишней курчавости”, мы вышли на улицу, а когда публика из зрительного зала перелилась в огромный, развёрнутый специально для общественных вечеринок зал, мы снова вернулись в театр. За неимением лучшего костюма, Маяковский надел полосатую байковую блузу, на которой вертикальные чёрные полосы в вершок шириной чередовались с канареечными такой же ширины. Товарищи артисты, узнав о нашем прибытии, устроили нам помпезную встречу. Когда мы в сопровождении интимной компании вошли в переполненное публикой помещение и направились через весь зал к абонированному нами столику, раздались аплодисменты артистов и оркестр заиграл туш. Но не успел он ещё закончить первую музыкальную фразу, как обычную кашу массового гудения прорезал истерический крик какого-то подростка. Увидав полосатую блузу Маяковского, мальчик душу раздирающим голосом крикнул на весь зал:
— Футури-и-исты!!!
Выкрик этот точно бросил огонь в публику и вызвал неописуемую неразбериху настроений. В зале поднялся такой гам, что оркестр утопал в нём, как ялик в океане.
Наш стол у стены окружила целая туча организаторов вечера и прилипла с просьбой читать стихи. Ввиду предстоящего вечера футуристов читать стихи мы отказались, но выступить с речью Маяковский согласился. Посреди зала из стола была немедленно сымпровизирована трибуна, на которую поднялся Маяковский. Его титаническая фигура была похожа на маяк. Но, несмотря на появление на трибуне Маяковского, гам в зале не уменьшался, а наоборот, увеличивался. Маяковский ждал. Чтобы успокоить публику, самая популярная актриса из труппы Писарева вскочила на стол рядом с Маяковским и стала умолять публику прекратить шум, но просьба артистки, к нашему недоумению, не только не ослабила шума, но вызвала настоящее столпотворение. Объяснялось это тем, что в зале боролись между собой два течения — за и против выступления Маяковского, так как полосатая кофта поэта, с одной стороны, шокировала среду благовоспитанных визиток, сюртуков и военных мундиров, а с другой — разжигала любопытство экзальтированной молодёжи и любителей сильных ощущений. Как бы ни презирал Маяковский дореволюционное буржуазное общество, он всё же был обязан “титуловать” его с трибуны так, как этого требовал тогдашний “хороший тон” (в те времена дерзких ещё кое-как выносили, но невоспитанных слушать не хотели). Он решил начать. Он вытянулся во весь рост и двинул басом вдоль всего зала:
— Милостивые государыни и милостивые государи! У вас сегодня два события: Новый год и футуристы...
Но эта фраза вызвала в зале уже форменную схватку голосов. От шума не было слышно даже собственного голоса. Маяковский сошёл с трибуны и сел за ужин. Он был заряжен невыплеснутым гневом и невысказанными словами и хмурился до конца ужина, который протекал в атмосфере хотя и сбавленного, но нестерпимого шума. Пробный камень показал плотность материала, с которым ему предстояло столкнуться через несколько дней, и это поставило его на соответствующую позицию.
У Маяковского был очень удачный организм. Он снабжал его энергией не только для того, чтобы превосходить других, но и для того, чтобы в тридцать шесть лет закидать себя таким количеством впечатлений, какое не придётся даже на долю восьмидесятилетнего старика. За всё время моего пребывания в его обществе от только один раз сказал, что „устал, как тысячелетний старик”. Вообще же усталости не знал. Обычной дозой впечатлений Маяковский не удовлетворялся, также и живя в гостинице. Например, поздно вечером, когда мы с Северяниным уже уставали от бесед, он спускался в бильярдную и играл с маркером на бильярде почти до утра, несмотря на то, что вставал очень рано. Однажды утром он нам сказал:
— Сегодня я вас буду рисовать.
Правда, никаких рисовальных принадлежностей, кроме альбома с тремя листами ватманской бумаги и простого карандаша, у него с собой не было. Но разве Маяковский перед чем-либо останавливался? Через минуту я уже сидел перед ним на стуле, а он, сидя верхом на другом стуле и кидая своими чёрными глазами то на меня, то на бумагу, решительными и поспешными взмахами рисовал. Лицо моё оказалось упорным для рисования и не поддавалось. Но это-то ему и было нужно. Он перешёл в яростное наступление и, казалось, прямо штурмовал мое лицо. Он скомкал два наброска и только на третьем удержался. А когда овладел основными чертами, сиял, как победитель, как охотник, накинувший аркан на зебру. Чем ближе рисунок подходил к концу, тем лихорадочней кипела работа. Для яркости он решил размалевать портрет чернилами. Он пустил в ход все подходящие предметы, какие только были под рукой на письменном столе, чтобы извлечь из чернильницы как можно больше чернил. Наконец он выхватил изо рта папироску и неистово стал работать ею, часто тыкая то в чернильницу, то в рисунок. Это был последний этап компоновки. Через секунду он уже спокойно делал надпись, а через другую „в знак искреннего расположения” протянул портрет мне. Это был рисунок, размером 24×32 сантиметра. В этот момент он ещё не был покрыт гуашью.7![]()
Разогревшись на первом рисунке, для Игоря он решил расширить “полотно”. Он вырвал днище из своей картонки, в которой лежала его знаменитая жёлтая кофта, бросил вещи прямо на пол и, посадив Северянина на моё место, только в профиль, с таким же азартом взялся за работу. Орлиный профиль Северянина в передаче Маяковского едва ли мог найти себе что-либо равное по выразительности. Стремительность Северянина была доведена до предельной остроты; взгляд буквально дымился вдохновением; казалось, рисунок хочет улететь с полотна. Северянин, когда увидел портрет, съёжился и долго смотрел на него испуганно, ему было жаль, что на самом деле он всё-таки не так выразителен. Ноздри Маяковского вздрагивали, в глазах светилась гениальность. Он был доволен. Портрет было решено подарить мне. Придя в себя, Северянин наискось, повыше подписи Маяковского, крупно написал свои знаменитые строки из «Громокипящего кубка»
Как и следовало ожидать, от сидячей жизни в гостинице Маяковский и Северянин затосковали. Шататься по людным местам накануне выступления уже не хотелось. А между тем для разнообразия хотелось и женского общества. Но разве провинциальная барышня, имеющая в городе “положение”, пойдёт в гостиницу к холостякам да ещё прославленным столичным вертопрахам, хотя бы в качестве почитательницы талантов? Конечно, нет. До некоторой степени выручила нас демократическая среда: к нам по-товарищески пришли две красивые культурные девушки с телефонной станции, писавшие стихи и знавшие литературу. Одна из них — Шура Жуковская — знала хорошо многих писателей, и в особенности критиков, и этим сразу расположила к себе Маяковского. На почве литературных разговоров завязался лёгкий роман, который длился до конца пребывания Маяковского в Симферополе и закончился через три месяца шуточной открыткой Владимира Владимировича в ответ на пасхальное поздравление Шуры: „охотно бы с вами похристосовался, но вдруг — Измайлов...”.8![]()
Но в конце концов и это потеряло силу. Поэты ходили по номеру, как львы в клетке, не находя применения своей энергии, запертой “деловыми соображениями”. Чтобы развлечь товарищей, затосковавших в „Ваянии” (так, по мнению Маяковского, следовало бы назвать Крым), я устроил у себя на квартире суаре. А так как удельный вес северных гостей был большой, то и масштаб вечеринки пришлось взять, как говорится, с размахом, тем более, что молодость крылата, а авансы выдавались без задержки. Не заглядывая в будущее, я сделал всё, что было возможно, чтобы только достойным образом обласкать в своём краю поэтов, а в особенности Маяковского, для которого положительно ничего не было жаль. И вот 5 января у меня собрались все симферопольские таланты, с которыми я был знаком. Среди них преобладали литераторы, артисты, художники и представители музыкального мира. В центре внимания были, конечно, Маяковский и Северянин. Маяковский был одет в розовый муаровый пиджак с чёрными атласными отворотами, только что сшитый у лучшего портного в Симферополе, и чёрные брюки. Поэт был во всеоружии остроумия. Твёрдость и острота его как-то не гармонировали с мягкой атмосферой музыки, пения и чтения стихов. В среде обычных людей он так же диссонировал, как... нож в киселе. Владимир Владимирович почти не садился, величаво переходил из комнаты в комнату, собирая вокруг себя цветники женского общества. Надо сказать, что дамы сильно смущались, когда он подходил к ним на расстояние одного вершка и опускал на них свои тяжёлые глаза, но быть в обществе этого исключительного человека им было приятно. В гостиной соответствующим образом были выставлены только что сделанные Маяковским портреты — мой и Северянина. Присутствующие обсуждали характер и композицию рисунков, а также приёмы и особенности автора, но Маяковский не прислушивался к мнению общества, а эгоистически занимался тем, что его в тот момент интересовало, например, даму, которая уверяла его, что цветные костюмы мужчинам не к лицу, он убеждал, глядя ей на грудь, что золотые цепи дамам „не к бюсту”, и так далее.
За столом Маяковский сидел рядом с моей сестрой — поэтессой Марией Калмыковой. По левую сторону у него был Северянин с дамой. Маяковский был весел и много острил, как направо, так и налево. Когда на бокал сестры упал с цветочной вазы лепесток розы и повис на нём кудряшкой, Маяковский сказал ей:
— Ваш бокал с моим был бы точен, если бы не был олепесточен.
Варьируя и комбинируя кушанья, он надел на фруктовый ножичек кусочек ананаса и, окунув его в шампанское, попробовал. Комбинация пришлась ему по вкусу. Он немедленно предложил своей даме повторить его опыт и восторженно обратился к Северянину:
— Игорь Васильевич, попробуйте ананасы в шампанском, удивительно вкусно!
Северянин тут же сымпровизировал четыре строчки, игриво напевая их своей даме:
Ближайший сектор зааплодировал. Когда все узнали, в чём дело, виртуозность поэта приветствовали тостом. Подогревшийся журналист А., игнорируя в Маяковском поэта, предложил тост за Маяковского как за художника. Я возразил:
— Почему не как за поэта?
— Как поэта я его не знаю, — ответил журналист А.
Возмутившийся Маяковский мгновенно вскочил с бокалом в руке и сердито выпалил в сторону журналиста:
— А я приветствую вас как зубного врача, потому что вашей профессии не знаю.
И этого было достаточно для того, чтобы сторонники журналиста А. выступили с пламенными речами против футуристов, задевая колкими выражениями и творчество Маяковского. Я поставил на вид выступавшим, что вечер был устроен для приветствия гостей, а не для оскорбления. Вслед за мной встал Северянин и лирическим тоном, с оттенком обиды сказал короткую, но выразительную речь.
— Мы ехали на юг, — сказал он, — с надеждой встретить здесь ласковую природу и тёплое отношение со стороны общества, но мы ошиблись: природа встретила нас холодно, а общество — сурово. Нам остается только расценить соответствующим образом то и другое и терпеливо верить в то, что всё-таки после зимы бывает лето, а после бури — тишина. (Будучи любимцем дореволюционного общества, Северянин лично имел право рассчитывать на тёплое отношение.)
Последние слова были сказаны с некоторым ожесточением и уверенностью в победе футуризма. Задетые виртуозным ответом и самоуверенностью футуристов, журналисты буквально загалдели наперебой в несколько неудержимых голосов. Это некорректное поведение журналистов и выпады их против северных гостей оскорбили всех присутствовавших. Получился невообразимый хаос. Острые реплики рассвирепевшего Маяковского, которые он сквозь хаос голосов кидал в сторону журналистов, взрывались, как бомбы, и приводили их в бешенство. Это, естественно, вызвало с обеих сторон форменный ураганный огонь. Столкновение страстей превратилось в пожар, который, казалось, ничем уже нельзя было затушить. Доведенный журналистами до высшей точки раздражения и потерявший на мгновение равновесие, Маяковский схватил было со стола стеклянный предмет, но, быстро овладев собой, резко поставил его обратно на стол. При виде этой картины многие из гостей побледнели. Должен признаться, что катастрофа висела на волоске и угрожала ежесекундно грубейшим образом обрушиться на присутствовавших. Положение спасли адвокат Лейбман и доктор Салтыковский. Они буквально воткнули в этот скандал свои пламенные нейтральные речи и затушили его.
Зная наизусть тьму-тьмущую стихов, в том числе всего Северянина, Маяковский по каждому случаю либо цитировал, либо пародировал стихи поэтов, а в особенности — Игоря. Так, например, уходя в туалетную, он цитировал популярную строчку Северянина „Душа влечётся в примитив”, а придя обратно, напевал под Северянина пародию на какую-нибудь “уважаемую” строфу поэта. Северянину это не нравилось. Помню столкновение. Как известно, Северянин гордился своим прадедом Карамзиным и даже посвятил ему стихотворение, в котором были строки:
Однажды Игорь машинально замурлыкал эти строки. Маяковский тут же почти машинально перефразировал их и в тон Северянину басово “процедил” более прозаический вариант:
Этот намёк на „гастрономическую” поэзию Северянина и на частое посещение поэтом ресторана новой гостиницы «Астория» в Петербурге покоробил Игоря, он нахмурил брови, вытянул лицо и “с достоинством” обратился к Маяковскому:
— Владимир Владимирович, нельзя ли пореже пародировать мои стихи?
Маяковский, широко улыбаясь, не без издевательства сказал:
— Игорь, детка, что же тут обидного? Вы посмотрите, какая красота! Ну, например...
И тут же сымпровизировал какую-то новую ядовитую пародию на стихи Северянина. Игорю ничего не оставалось, как примириться с этим “неизбежным злом” и в дальнейшем встречать подобные пародии улыбками. Мне казалось, что рана Игоря, которую так безжалостно долбил Маяковский, зарубцевалась и обмозолилась навсегда, но на самом деле это было не совсем так. На другой день после банкета, необычно рано и в необычно хорошем настроении (несмотря на то, что виновники банкета в эту ночь почти не спали), ко мне пришёл Маяковский и, едва переступив порог передней, пробасил:
— Оставил Игоря накануне самоубийства, почти уверен, что повесится, вот до чего поссорились.
— Что случилось? — спрашиваю я.
— Да всё то же. Новый припадок возмущения моими пародиями, — снимая пальто, добродушно сообщил Владимир Владимирович.
Я знал, что щепетильный Северянин недооценивает прямодушия Маяковского и все его беззлобные шутки принимает за желание оскорбить его. Мне хотелось тут же пойти с Маяковским в гостиницу и ликвидировать неприятность, но неудобно было предлагать гостю обратное путешествие, тем более, что Маяковского здесь ждал замечательный сюрприз. Выход был только один — это немедленно поразить его сюрпризом, который откроет новые пути к ликвидации конфликта, но как же это сделать, когда этот “сюрприз” в моем кабинете храпит на полквартиры и угрожает серьёзной затяжкой эволюции. Распинаясь между сюрпризом и неприятностью, я предоставил все это естественной развязке и стал занимать гостя.
За завтраком прямота Маяковского прогулялась и по моему самолюбию: принесли почту, издательство Вольфа прислало первый экземпляр моего «Лирического потока», который выходил с предисловием Игоря Северянина и... Иеронима Ясинского (признаюсь, такая полярность была придумана для скандала). Дрожащей рукой подаю Маяковскому.
— Вот... Владимир Владимирович...
Маяковский схватил книжку, впился взглядом в обложку, которую удачно скомпоновал Георгий Нарбут,11![]()
— Я бы сказал, что это помесь Апухтина с Надсоном.
Впоследствии эту похожесть моих ранних стихов на стихи Апухтина и Надсона Маяковский в «Клопе» высмеял в более острой форме, и грустно, что некоторые недалёкие люди дали этой мысли превратное толкование.
Меня ужгло заключение Маяковского, но прямота его оказалась о двух концах. Я решил козырнуть перед ним кусками своих космических поэм, которых до него почти никому не показывал, так как стеснялся неэстетических выражений, а главное — многостопного ямба, ничуть не подозревая, что именно этот размер полюбится Маяковскому для выражения его величайших лирических настроений (в поэме «Во весь голос»). Я стал в позицию:
— Но у меня есть и другие стихи, Владимир Владимирович, только невкусные.
— Вот это-то и пленительно. Давайте их сюда.
Читаю:
— Ещё!
Маяковский приободрился.
— Почему вы с ними не выступаете? — спросил он.
— Они ещё не закончены.
— Напрасно. Надо бы закончить.
Я был удовлетворен: быть необруганным Маяковским — это уже достижение.
В знак ли прилива расположения или просто потому, что увидел на столе краски, но после завтрака Маяковский покрыл мой портрет (сделанный им) гуашью. Отойдя от рисунка, чтобы посмотреть на него издали, он сказал:
— Теперь в нём выражен лик вашего нового творчества. Надо чуточку замазать левое плечо.
Но не успел он ещё шагнуть, как проснувшийся Бурлюк (который приехал в пять утра), увидав Маяковского, наполнил визгом всю квартиру. Не помню, целовались они или только обнимались, но общей радости было много, в результате чего левое плечо так и поныне осталось незаконченным.
Когда мы после второго привала у стола втроём пришли в гостиницу, Игорь плакал, но уже не от обиды, а от одиночества, которого не выносила его лирическая и детски беспомощная натура. Приходу нашему он был рад, но “для стиля” не улыбался целый день, вплоть до того момента, когда мы вчетвером пошли к портному, чтобы заказать для Бурлюка “сногсшибательную” жилетку из цветистого бархата, и у Бурлюка по дороге над головой на нитке взвился красный детский шар. Окончательно же рассеял его сомнения насчет прямоты Маяковского следующий случай.
В день приезда Бурлюка все поэты ночевали у меня. Маяковскому и Бурлюку была отведена отдельная комната. Ночью Маяковский проснулся оттого, что в комнате заиграл нечаянно забытый будильник. Владимир Владимирович разбудил Бурлюка и начал с ним обслушивать мебель, полагая, что где-нибудь скрывается музыкальная шкатулка. После тщательного обследования поэты наконец обнаружили, что играет будильник, но остановить его всё-таки не могли, так как не имели на этот счёт никакого опыта. Тогда Маяковский предложил выбросить будильник в форточку, чтобы избавиться от истязающей его музыки. Больших трудов стоило Бурлюку удержать его от этой „нетактичности по отношению к хозяевам”. К счастью, у Бурлюка явилась мысль завалить будильник лежавшими тут же без применения подушками и тем заглушить неукротимую музыку.
Утром за столом Маяковский, когда Бурлюк под общий хохот над “ночной тревогой” публично стал нападать на него за его „непревзойдённый цинизм”, остроумно указал на расхождение “спроса” с “предложением”:
— Мне спать хочется, а он меня мазуркой угощает.
Такая прямота Маяковского в отношении хозяев будильника окончательно убедила Северянина в кристальной чистоте и беззлобности Маяковского, и первую размолвку их по наружному виду можно было считать ликвидированной.
7 января Театр Таврического дворянства разламывалая от публики:13![]()
— Милостивые государыни и милостивые государи! — загремел он при напряжённом внимании зала. — В каждом городе, куда бы ни приехали футуристы, из-под груды газетной макулатуры выползает чёрная критика, утверждающая, что за раскрашенными лицами у футуристов нет ничего, кроме дерзости и нахальства, и что во всех скандалах российских литературных кабаков виноваты только футуристы. Это неверно. В лице футуристов вы имеете носителей протеста против шаблона, творцов нового искусства и революционеров духа. Как недоваренное мясо застряла в зубах нудная поэзия прошлого, а мы даём стихи острые и нужные, как зубочистки.
И пошёл.
После лихого наскока на беспредметность и эпигонство символизма он истёр в порошок его крупнейших представителей — Бальмонта и Брюсова, виртуозно перемешивая их стихи со стихами Пушкина и Державина и издевательски преподнося эту мешанину растерявшейся публике; он до крови исхлестал „лысеющий талант” Сологуба, который „выступлениями Северянина украшал свои вечера, как гарниром украшают протухшие блюда”; он искромсал длинный ряд корифеев поэзии и других направлений, противопоставляя им галерею футуристов. После жестокой расправы со старой литературой Маяковский настойчиво предложил идею футуризма, деловито разворачивая перед слушателями группировку художественных сект искусства и литературы, демонстрируя “сегодняшние” достижения футуризма и намечая задачи завтрашнего дня. Словом, он предложил новую программу.
Оттого ли, что оратор подготовился, но блеск Маяковского в этот вечер был неповторим: речь его лилась, как Ниагара, голос грохотал совершенно необычно для слушателей и, казалось, не помещался в театре, слова выкатывались изо рта, как камни, бросаемые с горы. Несомненно, под видом старой литературы Маяковский громил старый заплесневевший мир капиталистической России, который прогнил вместе с литературой и требовал революционного крематория. Об этом красноречиво говорила удвоенная доза внутреннего клёкота, которым сопровождалась речь. Заряженный полнейшим отрицанием старого, поэт буквально истоптал самолюбие эстетической аудитории, но люди, подмятые ступнею мастодонта, засыпанные остроумием, израненные парадоксами, прощали оратору самые резкие издевательства. По- видимому, почва сама просила вспашки. Может быть, Маяковский и не был бы в этот вечер так ярок и беспощаден, если бы общество само не поставило его в оппозицию и не вырастило в нём такой резкой критики, но тут же восторжествовал его тогдашний принцип „чем хуже, тем лучше”. Бомбы острот поминутно выводили из равновесия зал, но аудитория душила в себе и аплодисменты, и смех, чтобы только не пропустить того, что лилось из уст неожиданно пришедшего к ней Заратустры. В публике клокотала смесь настроений: предубеждение сталкивалось с восторгом, недоумение — с почти осязаемым ощущением правоты футуристов и вопиющей потребности освежения литературного морга сквозняками футуризма. Словом, казалось, что пришёл какой-то титан, который ухватил за шею нашу приземистую литературу и до хруста сдавил ей дряблое горло. Но для серьёзного слушателя это был не только трибунный златоуст, который ставил на колени сердца, но и реформатор: в нём уже тогда сквозил преобразователь, который принёс полнейшую переоценку старых ценностей и обещал впрыснуть в артерию литературы идею новых форм, новых подходов и приёмов.
И величие этой миссии на мгновение покорило даже врагов всякой революционности.
Вот почему, когда из уст Маяковского упала последняя фраза, в зале началось нечто похожее на землетрясение, и вместо кошки на сцену полетели сентиментальные букеты цветов, которые Маяковский демонстративно швырял за кулисы. Нечего и говорить, что со всеми остальными участниками олимпиады Маяковский расправился, как хороший тореадор с плохими быками. Наши выступления после его речи и чтения стихов были бледными и легковесными...
После этого выступления литературный мезальянс Северянина с Маяковским оборвался. Такой яркий товарищ, как Маяковский, ни в какой мере не был выгоден для Северянина, желавшего доминировать среди собратьев по выступлениям. Северянин сделал колоссальную ошибку по отношению к своей славе, пригласив Маяковского в свою группу. Выступать с таким гигантом — это значило всегда казаться пигмеем и всегда терпеть провал. Тот лирический невод и мастерство в области стиха, которыми Северянин захватывал толпу, были затоптаны титанической гремучестью Маяковского. К счастью, эта постыдная причина личного характера получила подкрепление идеологического порядка: на вечере выяснились своего рода левые перегибы вождей кубофутуристов — Маяковского и Бурлюка (кстати, приставка ‘кубо’ занесена в литературу из области живописи и ужилась в ней за неимением другого определения левого крыла футуризма в литературе). Кубофутуристы стояли за полное разрушение старых форм в литературе и, нанося оглушительные „пощёчины общественному вкусу”, таким образом обнаружили, что вкус их находится в полном разладе со вкусом общества. Придя к убеждению, что это — поход против самой жизни и что с ним не сможет справиться даже силач Маяковский, который был сильнее людей, но не сильнее общества, мы с Северяниным сочли целесообразным утвердиться на позиции эволюции форм в литературе с привнесением в поэзию умеренного количества элементов будущего. Поэтому на другой день после выступления, когда нетерпеливый Маяковский укатил с Бурлюком в Севастополь, где мы должны были выступать 9 января, полубольной и разбитый Северянин, лёжа у меня в квартире, после некоторого собеседования со мной по вопросу идеологического расхождения с кубофутуристами заявил, что дальше тех городов, в которых выступления уже объявлены, с Маяковским он не поедет, и просил уведомить об этом устроителей. Устроители были рады такому случаю, так как кипучий Маяковский положительно всех, как товарищей по выступлениям, так и устроителей, измотал физически и разорил материально. Отказывать этому человеку в бесконечном расходовании на него денег не хватало твёрдости, а продолжать такое бесхозяйственное турне не было возможности. Расточительность молодого Маяковского, у которого вообще была жизнь набекрень, прямо запугивала организаторов. Когда, например, устроитель Шнейдеров, увидав катастрофическое положение кассы, взмолился о сокращении расходов, Маяковский, завязывая перед зеркалом галстук, добродушно заявил:
— На мне, деточка, никто не зарабатывает. Так и знайте.
Это было в Севастополе. А по возвращении в Симферополь, при отъезде в Керчь, по дороге на вокзал, в экипаже, Маяковский увлёкся спутницей и заявил, что в Керчь он не едет. Больших трудов стоило Бурлюку и самой спутнице ликвидировать этот скоропалительный роман, чтобы спасти положение.
Всё это вместе взятое явилось причиной для прекращения наших дальнейших совместных выступлений.
Но Маяковский не беспокоился. В это время остальные московские футуристы во главе с Василием Каменским и Петром Пильским14![]()
![]()
![]()
| Передвижная Выставка современного изобразительного искусства им. В.В. Каменского | ||
| карта сайта |  | главная страница |
| свидетельства | исследования | |
| сказания | устав | |
| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||