

15 июля ‹1922›. „28 июня в дер. Санталово Новгородской губ. после месячных непосильных мучений умер один из основоположников подлинного русского футуризма Велемир Хлебников... Умер в предбаннике, служившем ему вместо жилища, в страшной нищете. Денег не было даже на телеграмму в Москву, почему известие об ужасном положении запоздало, и бросившиеся на помощь товарищи не смогли перевезти Велемира из предбанника в дер. Санталово в специально отведенный для него распоряжением т. Троцкого больничный покой в Москве” («Бакинский рабочий», 15 июля 1922 г.). Таков конец Велемира. В двадцатом году я с ним познакомился, странное произвёл он на меня впечатление. Косматый, лохматый, немытый, с длинными нечёсаными волосами, со спутанной бородой, высокого роста — он показался мне необычайным. Было что-то в нём детски-трогательное, средь всех кругом себя выпячивающих он один был воплощением начала полного забвенья себя. Каратаев Платон был в сравнении с ним человеком с претензиями. Мало было в нём человеческого, ничего животного. Больше всего походил он на дерево (был он строен, хотя и сутулился), но при этом любил вечно скитаться. Беспечность невероятная: „Единственный мой враг — холод”. Мёрз зимой он люто (не оттого ли и в предбаннике поселился?); обувь его этого имени не заслуживала. Занимался он всё своими вычислениями (доски судьбы), обладая феноменальной памятью на даты и числа на протяжении всей мировой истории, составлял он вечно формулы и уравнения, долженствующие выразить связь и чередование событий. Над этой работой он и умер: не дала ему судьба положить себя на “доску”. В прошлом году, когда он излагал мне и В. свою теорию, В., слушавший его с большим и сочувственным вниманием (я — скептически), сказал: „И ангел протрубит конец времен. Не Вы ли, Велемир, — этот ангел?” В. определённо считал его явлением необычайным. „От него пахнет святостью, я чую этот запах при входе его”, — сказал мне В. раз. „Он между гениальностью и безумием”, — сказал мне В. в другой раз. Вспоминаю и изумительное слово Лидии Вячеславовны о том, что когда вглядишься в недра человека, оттуда выплывет такое странное чудовище, нечто уму непостижимое, как, например, Хлебников. Действительно, я не могу ничего особенно положительного сказать ни об уме, ни о сердце его. Но, тем не менее, очевидно, что и ум и сердце его были необычайны. Вот кто воистину был новый человек, не нашей породы, даже, казалось, уже не нашей природы. Последнее было, конечно, ошибочно: природа-то и погубила его. „Не вынесла душа поэта” прозаического тела. Душа поэта... нет, больше душа героя. Велемир был героем, и он, помню, на мой вопрос, почему В. [ему] не кажется идеальным, ответил: „Да потому, что его жизнь не героическая”. В чем же героизм Хлебникова? Да в том, что он был свободен и независим, как никто. Если я чему в нём завидую, так это больше всего той минимальности “благ”, которыми он удовлетворялся. Не увеличение доходов, а уменьшение расходов — вот что может обеспечить и сделать беспечным. Всегда погружённый в свои думы, со светлым ликом своим и “в никуда” глядящими глазами — был он подлинный подвижник, аскет и блаженный циник (в философском смысле). В Персии туземцы звали его „урус дервиш”, и воистину был он дервишем. Последний раз, уже по приезде из Персии, я его увидел босым в университете, он шёл к В. В. был внизу и замешкался; поднявшись вновь на второй этаж, я его уже не нашёл. Теперь уж никогда не найду. Но никогда не забуду. Нравственное его обаяние нескоро, надеюсь, испарится. Обо мне (я спросил его раз) был он такого мнения, что старое я довожу до последнего края, до острия, до совершенной завершённости, но, лицом обращенный весь к прошлому (Альт-ман — вставка моя), не создаю я нового, не вижу нового. По поводу дневника моего он как-то метко заметил, что дневник нужно вести с точностью до одного мгновенья — вот идеал дневника. В стихотворении, им написанном мне на память, есть такие строки:
Священный и дикий, таким был он сам; Велемир, Веле-Мир, не было его именем от рождения (то [имя] — Виктор), но всей жизнью и смертью он заслужил, что мир не забудет того, кто теперь в мире опочил...
‹...› В Баку у меня произошли интересные знакомства: с поэтами Сергеем Городецким (он был в Баку председателем Союза поэтов), Кручёных и при посредстве его с Велемиром Хлебниковым. Хлебников был, пожалуй, самой интересной личностью, которую я встретил в жизни. “Личностью” именно из-за отсутствия в нём всего личного. Даже имя его Велемир не его имя: его звали Виктор, но он не захотел такого громкого имени. Ходил он в длинном плаще на почти голом теле, а на груди у него был список какой-то с цифрами; это были его вычисления всяких выдающихся в истории событий: сколько не лет, а месяцев и дней, например, от Куликовской битвы до Бородинской и т.п. По этим вычислениям пытался он предугадать и события грядущие. Иногда и действительно предугадывал. Так, он верно угадал, когда начнётся в России революция. Однажды, при мне, Вячеслав Иванов ему сказал, что предсказано, что архангел некий явится и при нём наступит “конец времен”. „Может быть, Вы, Велемир, и есть тот архангел”. О нём же Вяч. Иванов мне сказал, что когда Велемир к нему приходит, он чувствует присутствие святого. Говорил Велемир почти нечленораздельно, но иногда очень дельно. Так, слушая моё чтение своего дневника, он сказал: „Теперь нужно не дневник, но минутник”. Хлебников, вероятно, подголадывал: денег ему давать нельзя было, ибо он их тут же раздавал первому встречному так же, как и любую одежду, которую ему давали. Я устроил ему обеды в студенческой столовой, но он об этом забыл и часто оставался без еды. А что ему давали в руки (было ли это съедобно или нет), он сейчас же клал в рот, даже не разжевывая: орехи, хлеб, арбуз и т.п. Когда я спросил у него, есть ли у него на свете враги, он ответил: только один — холод. И примечательно, что умер он в какой-то деревне, словно желая обогреться, в предбаннике. А о Вячеславе Иванове Хлебников мне как-то сказал, что в нём нет, к сожалению, ничего героического.
Захотелось Хлебникову поехать в Персию, и он как-то этого добился. Но уже у самого берега Энзели пароход из-за мели или бури не мог доплыть. Тогда Хлебников бросился к берегу вплавь. И выплыл. А в Персии туземцы считали его русским дервишем, а лавочники зазывали его к себе в лавку “на счастье”. Пробыл он в Персии недолго и скоро вернулся в Баку. Своих стихотворений он наизусть не помнил и даже забывал, какие когда написал. И когда при нём, бывало, читали стихотворение, в котором ему что-то нравилось, он на это указывал и удивлялся, когда ему говорили, что это его же стихотворение: он этого не помнил. Словом, Хлебников был человеком, у которого, вплоть до его имени, не было никакой собственности, и он сам себе не принадлежал. А кому же? Всему великому миру принадлежал Велемир. А всё своеобразие, своенравие его личности состояло в том, что у него не было никакой личности, ничего личного.
‹...› 21 января ‹...› Потом пришёл Хлебников.
Хлебников, работающий последнее время над “историческими ритмами”, то есть высчитывающий по известным формулам промежутки аналогичных событий (приблизительная формула: а · 3n для “подъёмных” событий и а · 2n — для “падающих”), рядом исторических примеров из разных областей иллюстрировал свои положения. Я слушал с нескрываемым пренебрежением, В. же слушал с вниманием явно сочувственным. Когда я выразил своё изумление по поводу того, что В. может серьёзно относиться к таким антилогическим мечтаниям, В. мне возразил, что я не могу одолеть непривычности, но что в воззрениях Хлебникова об угадывании грядущих событий ничего невероятного нет.
— „И Ангел вострубит, что времени больше не будет”, — может, Вы, Велимир, этим ангелом и будете, — сказал он Хлебникову.
— Почему Велимир? — спросил я, — ведь его зовут Виктор.
— Да, но он переделал своё имя, — сказал В., — и, по-моему, прав: греческие слова в русском звучат хорошо, латинские — нет, и я на Вашем (Виктора) месте сделал бы то же самое.
Разговор на прежнюю тему возобновился, и В. сказал:
— Детерминизм полный совершенно вяжется с моим мировоззрением, я полагаю, что мы, будучи существами вообще свободными, здесь, в жизни, именно несвободны. Мы были до рождения вольны́ в своём выборе, но выбрали — пропало: назвался груздем — полезай в кузов. Так что с этой стороны опыты Хлебникова мне не враждебны, что же касается “закона достаточного основания”, то мы всегда эмпирически ограничиваемся конечным числом причин, хотя для каждого явления причин бесконечно много. Но Велимир не причины хочет отыскать, а только временну́ю связь аналогичных событий, а аналогичность есть та единая, назовем её красная, нить, которая во многоразличных явлениях среди всех множеств других нитей явно выделяется.
— Да, — сказал я, — она выделяется, но только a posteriori, до этого же выделить её нет возможности. Что касается “закона достаточного основания”, то моё воззрение таково: для каждого явления метафизически имеется одна нам неведомая причина, эмпирически же для нашего представления набегает (и заслоняет истинную единую) ряд причин. И мы познаем множество суррогатов вместо единой подлинной причины. Эту причину, конечно, найти Хлебников не может, да и вообще не причин он ищет; эмпирически же, хотя Вы, В.И., и правы, что мы вместо многих причин удовлетворяемся несколькими, однако не все обратные теоремы верны, и по нескольким нитям определить событие — пучок бесчисленных нитей — нет возможности...
Говорили о познании и любви. Хлебников сказал, что всякое человеческое слово, мысль, жест — все замечательно.
— Нужно было бы писать дневник с точностью до одной секунды.
— Безусловно, — сказал я, — особенно замечательны разговоры с великими людьми, и я так недоволен Эккерманом, что он сравнительно так мало и так слабо передал нам “разговоры” с Гёте. Нет, такие вещи не так пишутся. ‹...›
| Передвижная Выставка современного изобразительного искусства им. В.В. Каменского | ||
| карта сайта | 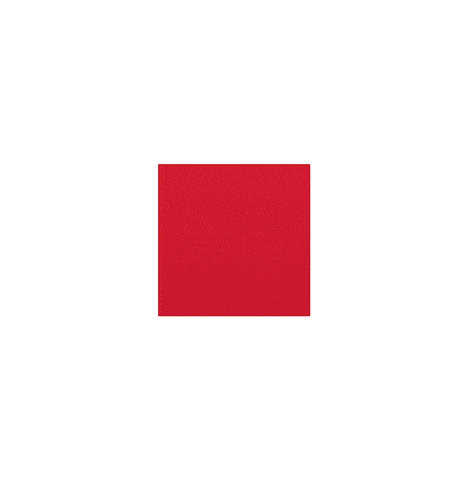 | главная страница |
| исследования | свидетельства | |
| сказания | устав | |
| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||