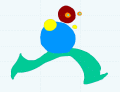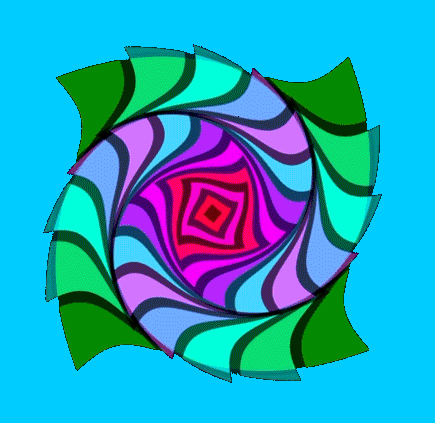Валентина Мордерер
По следам. XII
Продолжение. Предыдущие главы: 










Чужие поленья
Впрочем, я не верю в отсутствие умысла у мыслящих существ,
ещё менее — у мыслящих писателей…
Марина Цветаева. Письмо к амазонке
Если миску уронить,
Разобьётся миска.
Если близко лисий хвост,
Значит, близко лиска.
Джоэль Харрис. Сказки дядюшки Римуса
Надеюсь сделать очень краткое сообщение о том, как Осип Мандельштам обошёлся с одним стихотворением Велимира Хлебникова. Разумеется, вынуждена буду не выходить на берег из русла интертекстуальности, хотя именно этим староречьем (старицей) гидрологии предпочитаю не увлекаться, но иногда обстоятельства вынуждают. Постараюсь не рассуждать обширно ни о подтекстах, ни об аллюзиях и реминисценциях, ни о скрытых и явных цитатах, ни об их прадедушках — центонах. Прежде чем попросту перейти к стихам, я озабочусь только одной китайской историей, до которой почему-то никому нет дела, даже Георгию Ахилловичу Левинтону.
В наше время крупные сайты Интернета оснащены счётчиками посещаемости. Если вообразить ‘интертекстуальность’ таким сайтом, то окажется, что наиболее частыми визитами отличается имя Ролана Барта. Самой вожделенной цитатой, ставшей вымпелом на древке “подтекста”, будет его изъяснение:
Интертекстуальность не может быть сведена к проблеме источников и влияний; она представляет собой общее поле анонимных формул, происхождение которых редко можно обнаружить, бессознательных или автоматических цитаций, даваемых без кавычек.
О трудностях обнаружения — слова не скажу против, а вот с “бессознательностью” решительно не соглашусь, это никак не о наших героях. Умысел — всегда размещается во главе угла, и, разумеется, речь идёт не о косвенном умысле как правовой категории, ведущей к преступным деяниям. Тем не менее в «Караморе №2» Хлебников умудрился своё отношение к вольному цитированию и заимствованиям определить в терминах почти лиходейских: Я прав. Ведь дружно, нежно и слегка, // Мы вправе брать и врать взаймы у пустяка. И то сказать, кто бы ещё мог так загораться от стряпни Кручёных, чтобы приватная кухня двух поэтов кропала километры коллективных поэм? Но если цитата была уж слишком широковещательной, то Велимир вежливо проставлял в скобках Образ взят.1 Мандельштам тоже оставил достаточное количество свидетельств своей продвинутости в зоне „межтекстовых связей”. Сам по себе он развивался на этом многослойном поприще или в то время уже можно было извлечь какое ни на есть пособие в данной отрасли?
Мандельштам тоже оставил достаточное количество свидетельств своей продвинутости в зоне „межтекстовых связей”. Сам по себе он развивался на этом многослойном поприще или в то время уже можно было извлечь какое ни на есть пособие в данной отрасли?
Как известно из интернетного пересказа Марией Артемчук лекции Георгия Левинтона «Цитата, реминисценция, подтекст: Повторение пройденного» (22.2.2002)2 (а за истекшие 11 лет претензий автора к пересказу не последовало), речь, в частности, шла о датах и приоритетах. Определялась последовательность исторических событий с игривыми допущениями криминальной хроники. Цитирую один эпизод пересказа, повторяя пройденное:
(а за истекшие 11 лет претензий автора к пересказу не последовало), речь, в частности, шла о датах и приоритетах. Определялась последовательность исторических событий с игривыми допущениями криминальной хроники. Цитирую один эпизод пересказа, повторяя пройденное:
История о том, как Ю. Кристева сдула идею у К.Ф. Тарановского
и термин у Ю.М. Лотмана
Методологически основополагающая книга К.Ф. Тарановского появилась в 1967 году; Ю. Кристева ввела получивший всемирную известность термин “интертекстуальность” в 1969. Таким образом, по мнению Г.А. Левинтона, влияние идеи Тарановского на французскую исследовательницу вполне возможно.
С другой стороны, как указал учёный, есть мнение (Аркадий Блюмбаум), что впервые этот термин был употреблен Кристевой в 1965 году в докладе о Бахтине, и, таким образом, идея не могла быть напрямую взята ею у Тарановского.
В любом случае, как указал Георгий Ахиллович, широко используемый теперь термин “интертекстуальность” является калькой введенного ранее Ю.М. Лотманом понятия “межтекстовые связи”.
Не рискну ввинчиваться в высокоучёный спор с досужими предположениями о доме, который построил Джек, и о злоключениях пшеницы из тёмного чулана. Мало ли чьи положения использовал Михаил Бахтин, идеи которого потом развивала Юлия Кристева… Стратиграфия и геохронология меня никогда не увлекали, как, впрочем, и патенты на изобретения в карандашной промышленности.
Я лишь веду дело о том, чьи влиятельные строки мог прочитать Мандельштам об осязательной и многовековой укорененности в литературной жизни “подтекстов” (как бы они не именовались). Признáюсь, я долго и настойчиво проводила предварительный опрос о бытовании в научной упоминательной практике нижеследующего текста (в связи с “интертекстуальностью”), и не получила ни одного вразумительного ответа. Тогда как откликов восхищенных читателей — множество. Но если я не права — пусть меня научат.
В 1922 году синолог Василий Михайлович Алексеев, будущий академик, издал первую книгу своих переводов из фантастического собрания знаменитого новеллиста Пу Сун-лина «Лисьи чары» (всего по-русски сборников о чудесах будет четыре3 ). В «Предисловии переводчика» он объяснял русскому читателю своё образие литературного мастерства Пу Сун-лина (писавшего под именем Ляо Чжай), соединявшего поэтическую утонченность рассказчика с талантом и безмерной памятью учёного. Привожу пространную цитату из В.М. Алексеева из-за важности ее содержания, а также потому, что в большинстве переизданий (в том числе в сетевой версии) «Предисловие переводчика» к «Лисьим чарам» подверглось значительным сокращениям.
). В «Предисловии переводчика» он объяснял русскому читателю своё образие литературного мастерства Пу Сун-лина (писавшего под именем Ляо Чжай), соединявшего поэтическую утонченность рассказчика с талантом и безмерной памятью учёного. Привожу пространную цитату из В.М. Алексеева из-за важности ее содержания, а также потому, что в большинстве переизданий (в том числе в сетевой версии) «Предисловие переводчика» к «Лисьим чарам» подверглось значительным сокращениям.
‹...› Китайское образование вырабатывало человека, отличающегося от необразованного, во-первых, тем, что он был в совершенстве знаком с тайною языка во всех его стадиях, начиная от архаической, понятной только в традиционном объяснении, и кончая современной, сложившейся из непрерывного роста языка, который впоследствии прошёл ещё целый ряд промежуточных стадий. Во-вторых этот человек держал в своей памяти, — и притом самым отчетливым образом, — богатейшее содержание китайской литературы, в чтение которой он весь был погружен чуть ли не двадцать лет, а то и больше! Таким образом, перед нами человек со сложным миропониманием, созерцающий всю свою четырехтысячелетнюю культуру, и со сложным умением выражать свои мысли, пользуясь самыми обширными запасами культурного языка, ни на минуту не знавшего перерыва в своё м развитии. Таков был китайский интеллигентный человек времен Пу Сун-лина. ‹...›
Трудно сообщить русскому читателю, привыкшему к вульгарной передаче вульгарных тем, и особенно разговоров, всю ту восхищающую китайца двойственность, которая состоит из простых понятий, подлежащих, казалось бы, выражению простыми же словами, но для которых писатель выбирает слова-намеки, взятые из обширного запаса литературной учёности и
понимаемые только тогда, когда читателю в точности известно, откуда взято данное слово или выражение, что стоит впереди и позади его,
4
одним словом — в каком соседстве оно находится, в каком стиле и смысле употреблено на месте и какова связь его настоящего смысла с текущим текстом. Так, например, Пу Сун-лин, рассказывая о блестящем виде бога города, ‹...› употребляет сложное выражение в четыре слова, взятых из разных мест «Шицзина», классической древней книги античных стихотворений, причем в обоих этих местах говорится о четверке рослых коней,
влекущих пышную придворную колесницу. Таким образом, весь вкус этих четырех слов, изображающих парадные украшения лошадей, сообщается только тому, кто знает и помнит всё древнее стихотворение, из которого они взяты. Для всех остальных — это только непонятные старые слова, смысл которых, в общем, как будто говорит о том, что получалась красивая, пышная картина. Разница впечатлений такова, что даже трудно себе представить что-либо более удаленное одно от другого. ‹...›
Одним словом, выражения заимствуются Пу Сун-лином из контекста, из связи частей с целым. Восстановить эту ассоциацию может только образованный китаец. О трудностях перевода этих мест на русский язык не стоит и говорить.
Однако всё это — ещё сущие пустяки. В самом деле, кто из китайцев не знал (в прежнее, дореформенное время) классической литературы? Наконец, всегда можно было спросить даже простого учителя первой школы, и он мог или знать, или догадаться. Другое дело, когда подобная литературная цветистость распространяется на всё решительно поле китайской литературы, задевая историков, и философов, и поэтов, и всю плеяду писателей. Здесь получается для читателя настоящая трагедия. В самом деле, чем дальше развивает отборность своих выражений Пу Сун-лин, тем дальше от него читатель. ‹...› Современные издатели рассказов Ляо Чжая печатают их вместе с толкованиями цветистых выражений, приведенными в той же строке.
Таким образом, вот тот
литературный приём, которым написаны повести Ляо Чжая. Это значит, вся сложная культурная ткань древнего языка привлечена к передаче живых образов в увлекательном рассказе. Волшебным магнитом своей богатейшей фантазии Ляо Чжай заставил кастового учёного отрешиться от представления о литературном языке, как о чем-то важном и трактующем только традиционные темы. Он воскресил язык, извлек его, так сказать, из
амбаров учёности и пустил в вихрь жизни простого мира.
5
Не правда ли, заправское руководство к действию:6 иди, читай, откликайся, прислушиваясь, к каждой строке, например, мандельштамовской «Грифельной оды» (1923). Именно это с лихвой и блеском проделал Омри Ронен, чья генетика была освящена если не китайскими тысячелетиями, так иудейской экзегезой, что тоже немало. Я долго испытывала сомнения: а вдруг Ронен где-то написал о «Лисьих чарах», но из его последнего эссе «Подтекст»7
иди, читай, откликайся, прислушиваясь, к каждой строке, например, мандельштамовской «Грифельной оды» (1923). Именно это с лихвой и блеском проделал Омри Ронен, чья генетика была освящена если не китайскими тысячелетиями, так иудейской экзегезой, что тоже немало. Я долго испытывала сомнения: а вдруг Ронен где-то написал о «Лисьих чарах», но из его последнего эссе «Подтекст»7 поняла, что этого не произошло.
поняла, что этого не произошло.
Мандельштам своё знакомство с “китайской грамотой” хитроумных ассоциаций и упоминаний засвидетельствовал непрерывным усложнением литературной практики. Прицельно ориентированная на „межтекстовые связи” «Египетская марка» начинается с указания на контакт с синологией, богатой знаковыми дарами: „Ночью снился китаец, обвешанный дамскими сумочками, как ожерельем из рябчиков”.8 Теперь можно прямиком отправиться к стихотворению Хлебникова, а разобравшись с ним, плавно возвратиться к самоуправству Мандельштама. Сборная “сверхпоэма” Хлебникова «Война в мышеловке» начинается высокомерным бойцовским текстом планетарного масштаба. Но до того, как переходить к цитации, и прежде, чем заниматься заимствованиями Мандельштама у Хлебникова, не обратить ли внимание на противоположную процедуру? Оба поэта были авторами «Зверинцев», но хлебниковский был о зоосаде и верах, что пребывают в слове ‘звери’, а мандельштамовский — о войне, которую следует посадить за решетку зверинца, где птицы и звери сошли с гербов воюющих стран: „Мы для войны построим клеть”. Хлебников заимствовал у Мандельштама образ, сузив пространство: что, как не маленькую клетку, являет глазам мышеловка? Но, сузив архитектурный объект, поэт подтекстом возвеличил конструкт и до размеров гамлетовской трагедии с пьесой в пьесе «Мышеловка», и до размаха деяний Крысолова из Гаммельна („Горе! Мышелов! Зачем судьбу устами держишь?”). Но незыблемость Велимирова авторитета такова, что он, подобно жене Цезаря, остается вне подозрений. Филологическая и охранительная установка накрепко застолблена В.П. Григорьевым: брать идеи могли только у Велимира и никак не наоборот.
Теперь можно прямиком отправиться к стихотворению Хлебникова, а разобравшись с ним, плавно возвратиться к самоуправству Мандельштама. Сборная “сверхпоэма” Хлебникова «Война в мышеловке» начинается высокомерным бойцовским текстом планетарного масштаба. Но до того, как переходить к цитации, и прежде, чем заниматься заимствованиями Мандельштама у Хлебникова, не обратить ли внимание на противоположную процедуру? Оба поэта были авторами «Зверинцев», но хлебниковский был о зоосаде и верах, что пребывают в слове ‘звери’, а мандельштамовский — о войне, которую следует посадить за решетку зверинца, где птицы и звери сошли с гербов воюющих стран: „Мы для войны построим клеть”. Хлебников заимствовал у Мандельштама образ, сузив пространство: что, как не маленькую клетку, являет глазам мышеловка? Но, сузив архитектурный объект, поэт подтекстом возвеличил конструкт и до размеров гамлетовской трагедии с пьесой в пьесе «Мышеловка», и до размаха деяний Крысолова из Гаммельна („Горе! Мышелов! Зачем судьбу устами держишь?”). Но незыблемость Велимирова авторитета такова, что он, подобно жене Цезаря, остается вне подозрений. Филологическая и охранительная установка накрепко застолблена В.П. Григорьевым: брать идеи могли только у Велимира и никак не наоборот.
«Войну в мышеловке» Хлебников начинает с обращения, метящего в читателя-фаната, поклонника и обожателя. Никаких сомнений за таким послушным приверженцем властителя дум не водится, он верит привилегиям вождя, его правам на любые сумасбродные выходки, его полномочиям заступника и сильного правителя.
Вы помните? Я щёткам сапожным
Малую Медведицу повелел отставить от ног подошвы,
Гривенник бросил вселенной и после тревожно
Из старых слов сделал крошево.
Где конницей столетий ораны
Лохматые пашни белой зари,
Я повелел быть крылом ворону
И небу сухо заметил: „Будь добро, умри!”
И когда мне позже приспичилось,
Я, чтобы больше и дольше хохотать,
Весь род людей сломал, как коробку спичек,
И начал стихи читать.
Был шар земной
Прекрасно схвачен лапой сумасшедшего.
— За мной!
Бояться нечего!9
В стихотворении сталкиваются противоположности — необозримое (вселенная, земной шар, небо, звезды) и бытовые мелочи (сапожные щётки, спички,10 гривенник), верх и низ, белое и чёрное, столетнее и сиюминутное. Незримо текстом управляют две недолговечные картинки-этикетки на коробках. Сведения о таких обиходных предметах невосстановимы, информация о них улетучивается за десятилетие. На упаковке с гуталином в начале века был изображен медведь, отсюда просьба к чистильщику обуви отодвинуть Малую Медведицу от ног подошвы. На спичечном коробке красовалась ветка померанца. Рапорт о картинке поступил опять же косвенно. В сборнике «Сестра моя жизнь» Бориса Пастернака в стихотворении «Из суеверья» первая строфа сравнивает съемное жилье поэта со спичечным коробком:
гривенник), верх и низ, белое и чёрное, столетнее и сиюминутное. Незримо текстом управляют две недолговечные картинки-этикетки на коробках. Сведения о таких обиходных предметах невосстановимы, информация о них улетучивается за десятилетие. На упаковке с гуталином в начале века был изображен медведь, отсюда просьба к чистильщику обуви отодвинуть Малую Медведицу от ног подошвы. На спичечном коробке красовалась ветка померанца. Рапорт о картинке поступил опять же косвенно. В сборнике «Сестра моя жизнь» Бориса Пастернака в стихотворении «Из суеверья» первая строфа сравнивает съемное жилье поэта со спичечным коробком:
Коробка с красным померанцем —
Моя каморка.
О, не об номера ж мараться,
По гроб, до морга!
У Хлебникова в стихотворении «Как стадо овец мирно дремлет…» (1921) именно так, веткой с плодом на ней, изображена спичка: Капля сухая жёлтой головки на ветке. Оранжевое деревце с фруктами, похожими на мелкие апельсины, входило в герб пригорода Санкт-Петербурга, Ораниенбаума (нем. Oranienbaum — померанцевое дерево). Не рискну зайти настолько далеко, чтобы предположить, что хлебниковские спички с померанцем обусловливают и ораные пашни, и крыло ворона. Но специфическая шутка, заложенная в тексте Пастернака („по гроб, до морга”), вторит амикошонскому призыву повелителя, обращенному к небесам: Будь добро, умри!. Впоследствии Хлебников ещё раз аукнется с траурной темой “померанца”: А спички — труп солнца древес — похороны по последнему разряду.
И тут-то, мысленно пробормотав „не-бес” и начав прислушиваться к подтекстам, получаю неотвратимый сигнал: что-то тут не так, слишком серой попахивает. И, в принципе, кто тут говорит — поэт или какой-то двойник? Конечно, Хлебников в высшей степени обладал чувством собственного величия и развитым чутьем смеховой культуры, недаром назвался Велимиром и родственником смехачей. (Но хохочущим, даже в стихах, его самого трудно представить.) А уж двойничество («Ка») и вообще желаннейший сюжет его литературного производства. Чтобы не делать скоропалительных выводов, возвратимся к одному из “первоисточников”. Далековатым подтекстом для Хлебникова, как ни странно, послужило собственное стихотворение, где у него чуть ли не впервые появляется спичка (‘серник’). Оно создано в Чернянке и имеет точного адресата и датировку.11
Где прободают тополя жесть
Осени тусклого паяца,
Где исчезает с неба тяжесть,
И вас заставила смеяться,
Где под собранием овинов
Гудит равнинная земля,
Чтобы доходы счёл Мордвинов,
Докладу верного внемля,
Где заезжий гость лягает пяткой,
Увы, несчастного в любви соперника,
Где тех и тех спасают прятки
От света серника,
Где под покровительством Януси
Живут индейки, куры, гуси,
Вы под заботами природы-тети
Здесь, тихоглазая, цветете.
На первых порах стихотворение кажется до крайности простодушным и домовитым. Идиллическая картина южного хлебосольного хозяйства — много молодежи, живописи, игр, смеха. Птичники и цветники, овины и деревья — равнинный ландшафт богатых угодий. Все счастливы — и удачливые в любви, и невезучие. И вдруг — дыра, да ещё в первой строке… Футуристическая благостность прорвана символистской неприкаянностью — типичный образчик оксюморона. Тополя прободают жестяное, поддельное небо паяца осени. Чем не «Балаганчик» Блока, где паяц Арлекин разрывает нарисованное на бумаге окно?12 Судя по мемуарам, к неудачникам, то есть к двойнику Пьеро, Хлебников относит себя, а в соперниках обретается неуживчивый Михаил Ларионов, который вытолкал однажды из коляски Велимира вместе со свеженаписанным портретом.13
Судя по мемуарам, к неудачникам, то есть к двойнику Пьеро, Хлебников относит себя, а в соперниках обретается неуживчивый Михаил Ларионов, который вытолкал однажды из коляски Велимира вместе со свеженаписанным портретом.13
Но не только Александр Блок участвует в хлебниковском спектакле, ведь у Блока всё серьезно, никто не смеется. Скорее всего, подтекстом приходится также признать знаменитую в начале века, как и сейчас, оперу Руджеро Леонкавалло «Паяцы», где ария Канио звучала в переводе Н.М. Спасского (почти неизменном и поныне):
Ты наряжайся
и лицо мажь мукою.
Народ ведь платит, смеяться хочет он.
А Коломбину
Арлекин похитит.
Смейся, Паяц, и всех ты потешай!
Ты под шуткой должен
скрыть рыданья и слезы,
А под гримасой смешной
муки ада. Ах!
Смейся, Паяц,
Над разбитой любовью,
Смейся, Паяц, ты над горем своим!
Дальше в тексте ничего, присущего символизму, не обнаруживается, разве что нарастающее двойничество. Но и оно сугубо хлебниковское, так как это дуализм слов. Исчезающая в небесах тяжесть (вес) порождает веселость в будетлянском братстве (И вас заставила смеяться). Опять-таки шутка имеет более обширный ареал: если с небосвода пропадет сила тяжести (а именно слово ‘сила’ опущено), то вас подвигнут к смеху силлы — так у греков назывались насмешливые, пародийные стихотворения. К тому же неологизм, преднамеренно организованный для милой девушки Надежды, — тихоглазая, имеет сильно звучащий латинский корень: sileo — быть тихим, безмолвным.
Пятка соперника как раз та болевая точка, из которой будут развиваться дальнейшие обувные мотивы. Уже и здесь эта “пята” солирует напропалую. Латинские слова solea, solum имеют разветвленную сеть значений (в других языках: англ. — sole; франц. — sol; нем. — Sohle и т.д.), с которыми в данном стихотворении корреспондируют пятка (основание, подошва) и равнинная земля, то есть подразумеваемое место действия — Чёрная долина.
Между тем самыми ударными компонентами текста представляются произнесенные “знаковые” имена — Януся и Мордвинов. Пятнадцатилетняя младшая сестра Бурлюков Марианна-Януся вряд ли всерьез ведает всем птичьим хозяйством, зато ее куры не на шутку равны заботам природы-тети, так как латинское слово cura — забота. Уменьшительное имя Марианны и вовсе напрашивается в символы стихотворного текста, который ведет себя как двуликий бог Янус. А с двоедушием графа разобраться и того проще. Корень его фамилии — вульгарный двойник высокого “лика” (кому как не мне говорить об этом), но в украинском языке лiк — это счет, чем хозяин имения и занимается: Чтобы доходы счёл Мордвинов. Вот в какие прятки играет на свету и без света лукавая вязь простоватого стихотворения.
„Эка невидаль!”, — подумает читатель-скептик или поэт-критик Александр Уланов. — „Всем и так давно известно, что хлебниковские тексты лукавы, многолики, имеют несколько смысловых пластов и подмалёвок”. Что ж, я рада услужить и добавить ещё слой-другой.
Пора возвратиться к началу «Войны в мышеловке», то есть к стихотворению «Вы помните? Я щёткам сапожным....» Вспоминать, так вспоминать. Общие детали двух стихотворений (о банке с ваксой и о Чернянке): спички и серник, подошва и пятка, гривенник и доходы, хохот и смех, а самое главное — единый для них лейтмотив — двуликость. Так все же, от чьего имени ведется похвальба в «Вы помните? Я щёткам сапожным…»? Кто произносит громкий спич о спичках? Вообще-то, я уже выводила закономерность (не для всех, только для шуток Велимира), в частности, для его драмы «Чёртик»: если есть чрезмерное хвастовство, ищи поблизости хвостатого. Тот, кто ломает род людской, как коробок серников, кто сумасшедшей лапой пытается охватить землю, тот, кому как бы ненароком приспичилось отослать нас к куплетам, фанфаронски толкующим о причинах войн на земном шаре, — он и есть главное действующее лицо стихотворения. Это похвальба Сатаны, что правит бал:
На земле весь род людской
Чтит один кумир священный,
Он царит над всей вселенной,
Тот кумир — телец златой! ‹...›
В угожденье богу злата
Край на край встаёт войной;
И людская кровь рекой
По клинку течёт булата!
Напомню также о не менее знаменитых куплетах Мефистофеля про блоху и хохот, о песне, созвучной Велимировой строке чтобы больше и дольше хохотать. У Хлебникова для Чёрта (во всех его изводах) кроме обязательного хвастливого хвоста припасен ещё более изысканный скомороший атрибут — его обувь (для чего в первой же строке требуется вспомнить подошву). Происходит эта шутка, сама собой напрашивающаяся для русскоязычного поэта, но привычно остававшаяся незамеченной,14 из немецкого словаря, где Teufel — чёрт, дьявол, бес, сатана, демон.
из немецкого словаря, где Teufel — чёрт, дьявол, бес, сатана, демон.
В стихотворении «Гонимый — кем, почем я знаю?..»15 Хлебников впервые опробовал именно такой способ двойничества в тексте, где от первого лица (как и в «щётках сапожных…») ведет речь Сатана (вернее, все перечисленные ипостаси Чёрта, включая Люцифера, Змия-Дракона и лермонтовского Демона). В стихотворении о «Гонимом» опознавательным клеймом Лукавого, тщательно закамуфлированным знаком, опять служат чёботы (сапожки → Teufel → туфли).
Хлебников впервые опробовал именно такой способ двойничества в тексте, где от первого лица (как и в «щётках сапожных…») ведет речь Сатана (вернее, все перечисленные ипостаси Чёрта, включая Люцифера, Змия-Дракона и лермонтовского Демона). В стихотворении о «Гонимом» опознавательным клеймом Лукавого, тщательно закамуфлированным знаком, опять служат чёботы (сапожки → Teufel → туфли).
Один из “нечистых” персонажей Хлебникова, явно гоголевский Чёрт (спереди совершенно немец), летает в стихотворении и, следовательно, помогает, не только кузнецу-Вакуле добыть черевички, но и выявить великого предшественника. По Велимировой догадке получается, что Гоголь, скорее всего, тоже воспользовался немецко-русской межъязыковой шуткой. Но связь чёрта с обувью осталась в потайной шкатулке Хлебникова, как бы тоже сыграла “в прятки”. Вот фрагмент из «Гонимый — кем, почем я знаю?..»:
Над юга степью, где волы
Качают чёрные рога,
Туда, на север, где стволы
Поют, как с струнами дуга,
С венком из молний белый чёрт
Летел, крутя власы бородки:
Он слышит вой власатых морд
И слышит бой в сквородки.
Он говорил: „Я белый ворон, я одинок,
Но все — и чёрную сомнений ношу,
И белой молнии венок —
Я за один лишь призрак брошу:
Взлететь в страну из серебра,
Стать звонким вестником добра”.
У колодца расколоться
Так хотела бы вода,
Чтоб в болотце с позолотцей
Отразились повода.
Мчась, как узкая змея,
Так хотела бы струя,
Так хотела бы водица
Убегать и расходиться,
Чтоб, ценой работы добыты,
Зеленее стали чёботы,
Черноглазые, ея. ‹...›
„Кто он, кто он, что он хочет?
Руки дики и грубы!
Надо мною ли хохочет
Близко тятькиной избы?..”
Цветы-чёботы были замечены комментаторами, связь с гоголевскими черевичками — нет. Хлебников со знанием ботанических причуд описывает дикую орхидею — “Венерины башмачки” или “туфельки Венеры”,16 но без контакта сапожек с чертовщиной резкий переход от мечтательных слов Чёрта к колодцу памяти и словарю цветов остается непроясненным.
но без контакта сапожек с чертовщиной резкий переход от мечтательных слов Чёрта к колодцу памяти и словарю цветов остается непроясненным.
Так и осталась бы одинокой бесовской прихотью подошва сапога в первой строке «Войны в мышеловке»,17 если бы не раскололась она, как вода у колодца, будучи подхваченной другим поэтом. О хлебниковской рифме ‘подошва — крошево’, влившейся в «Стихи о неизвестном солдате» Мандельштама, написано немало. Ни с чьими выводами я не согласна, потому сейчас в спор предпочту не вступать. Это отдельная тема, а теперь обращу внимание только на то, чем “внятно” у поэтов продолжился “подтекстовый” диалог, или иначе — чем же Мандельштам попользовался у Велимира.
если бы не раскололась она, как вода у колодца, будучи подхваченной другим поэтом. О хлебниковской рифме ‘подошва — крошево’, влившейся в «Стихи о неизвестном солдате» Мандельштама, написано немало. Ни с чьими выводами я не согласна, потому сейчас в спор предпочту не вступать. Это отдельная тема, а теперь обращу внимание только на то, чем “внятно” у поэтов продолжился “подтекстовый” диалог, или иначе — чем же Мандельштам попользовался у Велимира.
В мандельштамовском стихотворении «Полночь в Москве…» (1931) упор сделан на тайный умысел, секретность, жуликоватость — подмётность подошвы, подмётки.
Полночь в Москве. Роскошно буддийское лето.
С дроботом мелким расходятся улицы в чоботах узких железных.
В чёрной оспе блаженствуют кольца бульваров...
Нет на Москву и ночью угомону,
Когда покой бежит из-под копыт...
Ты скажешь — где-то там на полигоне
Два клоуна засели — Бим и Бом,
И в ход пошли гребенки, молоточки,
То слышится гармоника губная,
То детское молочное пьянино:
— До-ре-ми-фа
И соль-фа-ми-ре-до.
Бывало, я, как помоложе, выйду
В проклеенном резиновом пальто
В широкую разлапицу бульваров,
Где спичечные ножки цыганочки в подоле бьются длинном,
Где арестованный медведь гуляет —
Самой природы вечный меньшевик.
И пахло до отказу лавровишней...
Куда же ты? Ни лавров нет, ни вишен...
Я подтяну бутылочную гирьку
Кухонных крупно скачущих часов.
Уж до чего шероховато время,
А все-таки люблю за хвост его ловить,
Ведь в беге собственном оно не виновато
Да, кажется, чуть-чуть жуликовато...
Чур, не просить, не жаловаться! Цыц!
Не хныкать — для того ли разночинцы
Рассохлые топтали сапоги, чтоб я теперь их предал?
Мы умрем как пехотинцы,
Но не прославим ни хищи, ни поденщины, ни лжи.
Говорить сейчас буду, не отвлекаясь, только о тех крупинках “соли” текста, на которые указует нота ‘соль’ детского пианино. Попросту, соль — в соли, в подошвах-sol,18 подоплеке двойственной природы поэтического говорения. Буддийская Москва — не религиозная и даже не будетлянская, это столица строящаяся (будувать — укр. строить). Она не только двулика, она по определению сто-лична. Роскошество бьет в глаза, адское, бесовское начало слегка припрятано, но не слишком.
подоплеке двойственной природы поэтического говорения. Буддийская Москва — не религиозная и даже не будетлянская, это столица строящаяся (будувать — укр. строить). Она не только двулика, она по определению сто-лична. Роскошество бьет в глаза, адское, бесовское начало слегка припрятано, но не слишком.
Железные чоботы на улицах, может быть, трамвайные пути, но возможно, и что-то близкое к орудиям пыток. Чёрная оспа чертовски подходящее состояние для блаженства. Покоя в городе нет и ночью. Полигон не цирк для клоунады, а место, где происходят взрывы, сложенные вместе клоуны Бом и Бим дают ‘бомбим’. Даже медведь на цепи у поводыря-цыгана назван арестованным. Жуликоватому времени, как и людям, есть резон жаловаться и хныкать, просить о снятии вины, возврате запаха и вкуса жизни, о свободе бега и побега.
Да, но причем тут Хлебников? Два пункта служат привязкой к его стихотворным «щёткам сапожным». Во-первых, спичечные19 ножки цыганочки, а во-вторых, то, что арест медведя связан с меньшевиками. По отдельности каждый из них текстуально обоснован, так как и медведь, действительно, гуляет на цепи, и меньшевики подвергнуты репрессиям и иезуитским политическим процессам. Связь между ними только хлебниковская. Медведь потому „самой природы вечный меньшевик”, что время (полночь) и география (север, полуночный) стихотворения определяются по полигону Полярной звезды Малой Медведицы, той самой, что в “обувном” контексте существует только в стихотворении Хлебникова.
ножки цыганочки, а во-вторых, то, что арест медведя связан с меньшевиками. По отдельности каждый из них текстуально обоснован, так как и медведь, действительно, гуляет на цепи, и меньшевики подвергнуты репрессиям и иезуитским политическим процессам. Связь между ними только хлебниковская. Медведь потому „самой природы вечный меньшевик”, что время (полночь) и география (север, полуночный) стихотворения определяются по полигону Полярной звезды Малой Медведицы, той самой, что в “обувном” контексте существует только в стихотворении Хлебникова.
В какой мере Мандельштам реагирует на специфическую подноготную речей Мефистофеля, виртуозно сконструированных Велимиром? Пожалуй, и тут могут возникнуть сомнения в том, кто на что первым откликается… 15 ноября 1917 года в эсеровской газете «Воля всем» было опубликовано стихотворение Мандельштама о Ленине и Керенском.
Когда октябрьский нам готовил временщик
Ярмо насилия и злобы
И ощетинился убийца-броневик,
И пулемётчик низколобый, —
— Керенского распять! — потребовал солдат,
И злая чернь рукоплескала:
Нам сердце на штыки позволил взять Пилат,
И сердце биться перестало!
И укоризненно мелькает эта тень,
Где зданий красная подкова;
Как будто слышу я в октябрьский тусклый день:
— Вязать его, щенка Петрова!
Среди гражданских бурь и яростных личин,
Тончайшим гневом пламенея,
Ты шёл бестрепетно, свободный гражданин,
Куда вела тебя Психея.
И если для других восторженный народ
Венки свивает золотые, —
Благословить тебя в далекий ад сойдет
Стопами легкими Россия.
Сначала я хотела бы отвлечься и сказать о том, что заведомо имеет абсолютно независимое происхождение, об эпитете ‘тусклый’, употребленном обоими поэтами. „Октябрьский тусклый день” Мандельштама вполне соответствует петербургской погоде. Выражение осени тусклого паяца об августовском небе юга заставляет обоснованно подозревать знакомство Хлебникова с обозначением красок в живописи. Золотисто-жёлтый цвет, цвет тосканской соломки имеет обозначение ‘tuscan’. Впрочем, и мандельштамовский словесный круг соломки, тисков, золота и тусклости вращается вокруг цвета тоски Тосканы.
А теперь о Ленине, для описания которого использованы не только худшие словесные обороты (временщик, ярмо насилия и злобы, убийца-броневик), но и подспудное указание на то, что страна попала в руки вождя, чья адская личина скрывает черты Дьявола-Антихриста.20 Мандельштам маскирует свои жуткие пророчества под вполне безобидной “обувной” символикой, сопровождающей адскую будущность России под ярмом Мефистофеля: ‘пята’ (в слове ‘распять’); sol-подошва (в словах ‘солдат’ и ‘золотые’); „красная подкова” (при описании Дворцовой площади); „стопами” (вход России в грядущую преисподнюю).
Мандельштам маскирует свои жуткие пророчества под вполне безобидной “обувной” символикой, сопровождающей адскую будущность России под ярмом Мефистофеля: ‘пята’ (в слове ‘распять’); sol-подошва (в словах ‘солдат’ и ‘золотые’); „красная подкова” (при описании Дворцовой площади); „стопами” (вход России в грядущую преисподнюю).
В 1919 году Хлебников собирает “сверхпоэму” «Война в мышеловке», и на первое место ставит пророческое стихотворение о сатанинской природе власти, где свои прогнозы дает Антихрист. Весной 1920 года он пишет «Ночь в окопе», центральное место в которой занимают попытки Ленина оправдать свои деяния.21 Вот речь вождя:
Вот речь вождя:
И пусть конина продаётся,
И пусть надсмешливо смеётся
С досок московских переулков
Кривая конская головка,
Клянусь кониной, мне сдаётся,
Что я не мышь, а мышеловка.
Клянусь ею, ты свидетель,
Что будет сорванною с петель,
И поперек желанья бога,
Застава к алому чертогу,
Куда уж я поставил ногу.
Я так скажу — пусть будет глупо
Оно глупцам и дуракам,
Но пусть земля покорней трупа
Моим доверится рукам.
И знамена, алей коня,
Когда с него содрали кожу,
Когтями старое казня,
Летите, на орлов похожи!
Я род людей сложу, как части
Давно задуманного целого.
Рать алая! Твоя игра! Нечисты масти
У вымирающего белого!
Как привычно говорится в детских играх: „Найдите десять отличий (или сходств)”, сравнив речи двух Нечистых — из «Войны в мышеловке» и из «Ночи в окопе». Они равны. Спич, произнесенный Лениным, покоится на тех же основаниях, что и тирада предполагаемого Сатаны. Оба действуют поперек желанья Бога. Оба ломают род людей, чтобы сложить его затем по своё му подобию. Земному шару в лапах сумасшедшего ничем не покойней, чем покорному трупу земли в руках вождя. И в обоих случаях речистые Наставники наравне с головой присягают своим ногами.
Не берусь утверждать, что Хлебников переориентировал своё смутное воспоминание о щётках сапожных под влиянием мандельштамовского “временщика”. Достаточно того, что он перенес прежнюю игровую структуру хвалебной речи Чёрта в современность, и дифирамб вскрыл двуликость и жестокость нового вождя.
Следовательно, когда Мандельштам пишет «Полночь в Москве…», где уже сбылись самые мрачные предсказания будущего и Россия уже сошла тяжелыми стопами в пекло, он хорошо осведомлен о способах поэтических волеизъявлений Хлебникова, не дожившего до „буддийского лета”. Поэты не только слышат друг друга, но они и независимо измышляют такие словесные лабиринты, где входы только кажутся на один покрой, а выходы и вовсе не там, куда ведут стрелки.
А ведь я всего-навсего собиралась написать о том, что в стихотворении памяти Ольги Ваксель («Возможна ли женщине мертвой хвала?..», 1935) Мандельштам оборотился к хлебниковской банке с ваксой, почему и стал именовать мертвую возлюбленную Малой Медведицей — медвежонком и Миньоной. (То есть адресовался к ней так вовсе не из-за ее детской фотографии с плюшевым медведем.) И что чужелюбая власть, которая довела ее до могилы, вовсе не обязательно власть иной страны, достаточно было и родимой. И о силе, скрипке, бровях и ресницах, гербах, всезнайках и зеркалах, и много ещё о чем хотела рассказать … Но успела поведать только о „чужих поленьях в камине”, и занесло меня к чёрту на кулички. Что ж, как сказал поэт: „Поминать, так поминать, // Начинать, так начинать…” Будем считать, что это было только начало…
————————
Примечания 1
1 О хлебниковских вольготных заимствованиях и перелицовках см. в нашей статье «Завет свирели»:
http://ka2.ru/nauka/amor_3.html
 2
2 См.:
М. Артемчук. Неавторизованный и краткий конспект одной лекции. — http://www.ut.ee/cno/dno/260202_chitat.html
 3
3 Сборники переводов В.М. Алексеева из Пу Сун-лина (1640–1715) выходили в такой последовательности: «Лисьи чары» (1922); «Монахи-волшебники» (1923); «Странные истории» (1928); «Рассказы о людях необычайных» (1937).
 4
4 Шрифт
Arial здесь и далее всегда мой. —
В.М. Я выделила те выражения, что получили существенное развитие в текстах Мандельштама.
 5
5 Цитирую по изданию:
Пу Сун-лин. Рассказы Ляо Чжая о чудесах. Пер. с китайск. акад. В.М. Алексеева. Предисл. и коммент. В.М. Алексеева. Сост. и подготовка текста Л.З. Эйдлина.
М.: Худ. лит., 1973.
 6
6 Убеждена, что с оглядкой именно на «Рассказы Ляо Чжая о чудесах» написан «Между собакой и волком», “интертекстуальный” роман о волшебной лисе Саши Соколова. В свою очередь, Виктор Пелевин свой проказливый текст о лисе и волке ориентировал на эти тексты предшественников (в чем вряд ли когда-нибудь признается).
 7
7 См.: «Звезда», 2012, №3 — http://magazines.russ.ru/zvezda/2012/3/r16.html
 8
8 Волшебная лиса в текстах Мандельштама выступает не только как привычный басенный персонаж хитроумия (например, при обращении к кумысу Державина или к меду Ариосто), но и как свидетель „выморочного изобилия” тысячелетних китайских литературных воздействий. Например, в эссе «Вокруг натуралистов» (1933) Мандельштам пишет: „Благородное лестничное восхождение
лисицы и чувство прислоненности садовника к ландшафту и к архитектуре. Вчера читал Фирдусси, и мне показалось, будто на книге сидит шмель и сосет ее. В персидской поэзии дуют
посольские подарочные ветры из Китая. Она черпает долголетие серебряной разливательной ложкой, одаривая им, кого захочет, лет тысячи на три или на пять”.
 9
9 Впервые опубл.: Очарованный странник. Альманах весенний.
Пг., 1916. №10 (февраль). С небольшой правкой этот текст вошёл в поэму «Война в мышеловке», часть I (1919). Вариант 1922 г. под названием «Смутное воспоминание» посмертно опубликован в сб. Хлебникова «Стихи» (1923). В бумагах поэта сохранилась запись:
Сломал, как коробку спичек ‹...›
— раньше весны 1915 (РГАЛИ). Ранний вариант первой строфы (впервые: НХ, I–II, 1928):
НОЧЬЮ. НА ЮГЕ
Эй, вы!
Какая жуть!
От варенья айвы
До тебя, Млечный Путь!
Когда-то я щётке сапожной
Повелел Медведицу Малую отставить от подошвы.
Гривенник дал я вселенной и тревожно
Из старых слов сделал крошево. 10
10 Специально посвященную хлебниковским спичкам статью см.:
Римма Ханинова. Спички судьбы Велимира Хлебникова: поэтика пламени. —
http://ka2.ru/nauka/khaninova_1.html 11
11 Впервые опубликовано Н. Харджиевым в 1940 году. Написано в августе 1912 г. в имении графа А.А. Мордвинова Чёрная долина (усадьба — в Чернянке) Нижне-Днепровского уезда Таврической губернии, где Хлебников часто гостил в семье Д.Ф. Бурлюка, служившего у графа управляющим. Обращено к Надежде Бурлюк (1896–1967), юной сестре Давида.
 12
12 „Прыгает в окно. Даль, видимая в окне, оказывается нарисованной на бумаге. Бумага лопнула. Арлекин полетел вверх ногами в пустоту. В бумажном разрыве видно одно светлеющее небо. Ночь истекает, копошится утро. На фоне занимающейся зари стоит, чуть колеблемая дорассветным ветром, — Смерть, в длинных белых пеленах, с матовым женственным лицом и с косой на плече. Лезвее серебрится, как опрокинутый месяц, умирающий утром” (из драмы Блока «Балаганчик», 1906).
 13
13 Рассказ Давида Бурлюка об этом происшествии приведен в комментарии к пассажу из мемуаров Бенедикта Лившица «Полутораглазый стрелец»: „Ларионов с Бурлюком были когда-то приятелями. В 1908 году, организовав на деньги, данные отцом, выставку «Венок», Давид первым привлек к участию в ней Ларионова. Их картины висели рядом и на предыдущем «Бубновом Валете», а летом десятого года автор «Солдатской Венеры» жил в Чернянке вместе с Хлебниковым, пользуясь широким гостеприимством семьи Бурлюков. Вздорно-самолюбивый характер Ларионова, желавшего главенствовать над всеми, и встреченный им отпор заставили его отколоться от основного ядра и образовать свою, постоянно менявшуюся в составе группу”. См. http://www.belousenko.com/books/poetry/lifsits_strelec.htm, а также
http://ka2.ru/hadisy/streletz_2.html 14
14 Не для поэтов, разумеется. У Пастернака в стихотворении «Мефистофель»:
В чулках как кровь, при паре бантов,
По залитой зарей дороге,
Упав, как лямки с барабана,
Пылили дьяволовы ноги. Словарная шутка с туфлями не прошла незамеченной и для современных рекламщиков и маркетологов, так как существует сеть обувных магазинов под названием «Мефисто».
 15
15 Надеюсь, вскоре наступит черёд и этого текста, а сейчас только о Чёрте и чёботах.
 16
16 Собственно, сам Хлебников отослал к ботаническому атласу стихотворением «В лесу. Словарь цветов»:
Подъемля медовые хоботы, /
Ждут ножку богинины чёботы. 17
17 Вообще-то
подошвы сапог или туфель не единственный знак присутствия Чёрта, есть ещё его
лик, вставленный в
крыло ворона. Я не несу ответственности за экстравагантность Велимировых шуток, могу только отметить, что у него вороновы крылья иногда служат заменой иных холстов, как, например, в восьмом тексте той же «Войны в мышеловке»:
Ведь я люблю на крыльях ворона /
Глаза красивого Спасителя! 18
18 Нам уже доводилось мельком писать о развитии темы некоторых мандельштамовских “подошв” в главе «Da Capo» в кн.:
Григорий Амелин, Валентина Мордерер. Миры и столкновенья Осипа Мандельштама (см., например: http://www.gramotey.com/?open_file=1269029069 ). Приведу некоторые соображения в сильно измененном виде и сокращении. У Мандельштама графическая и звуковая ипостаси слова сливаются в транскрипции нем. Sohle — ‘подошва’ по-русски. “Глоссограф” появляется в одном из вариантов:
Пятна жирно-нефтяные
Не просохли в купах лип,
Как наряды тафтяные
Прячут листья шёлка скрип. То, что „не просохли” транскрибирует Sohle, подтверждается другими примерами: „Для того ли разночинцы / Рассохлые топтали сапоги”; „Под
солёною пятою ветра…” («Нашедший подкову»). Мотивы “шитья” и “швов”, рождаемые рифмами ‘подошвы/прошвы’ (о Боратынском), как и позже ‘подошве/крошево’ («Стихи о неизвестном солдате») — это мотивы самого стихотворчества, которые закрепляют и развивают омонимию слова ‘стопа’. Присутствие всюду чертовщины или демонического начала — отдельная тема.
 19
19 Запах адской серы спичек (серников) я привыкла чуять в неожиданных контекстах, например, в знаменитом стихотворении Пастернака 1921 года о двуликости поэтов („исчадий мастерских”) и их лiке-пересчете („нас ‹...› трое”). Здесь же наличествуют и “обувные” приметы Мефистофеля (sol в солдатских и
соломе).
Нас мало. Нас может быть трое
Донецких, горючих и адских
Под серой бегущей корою
Дождей, облаков и солдатских
Советов, стихов и дискуссий
О транспорте и об искусстве. ‹...›
Слетимся, ворвемся и тронем,
Закружимся вихрем вороньим,
И — мимо! — Вы поздно поймете.
Так, утром ударивши в ворох
Соломы — с момент на намете, —
Ветр вечен затем в разговорах ‹...› 20
20 Пастернак впрямую именует Ленина чёртом в стихотворении «Русская революция» (1918): „Пред взрывом плещет ад Балтийскою лоханью”.
 21
21 Я уже писала прежде, как Хлебников “разделался” с вождем мирового пролетариата (
лицом Монгольского востока) в заумной пьесе «Боги», где о нем дважды сказано
сукин сын (с подспудной цитацией из Алексея Толстого: „Сидит под балдахином Китаец Цу-Кин-Цын…”). См. эссе «Сыновей синева» —
http://ka2.ru/nauka/valentina_8.html
Изображение заимствовано:
Nicolas de Staël (1914–1955).
Méditerranée (La Ciotat). 1952. Huile sur toile.
Продолжение 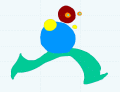













![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()