


Об этом следует поговорить уже потому, что в данном случае ответ многим кажется слишком простым, настолько легким и лежащим на самой поверхности, что стоит только нагнуться и поднять.
В самом деле, не достаточно ли прочесть раннее стихотворение:
А вот мы увидели и другое:
Неужели и это Хлебников? Можно было держать пари, что это строки Северянина.
Ну а это?
Следуем дальше. Вот знаменитый «Зверинец» Хлебникова, впервые напечатанный им в 1910 году в первом сборнике «Садок судей» и много раз перепечатывавшийся затем в том же и иных вариантах. Тут дело обстоит так же просто: ещё давным-давно Чуковский сопоставил параллельные тексты Хлебникова и Уитмена, наглядно показав, что не только структура стиха, но и многие мысли заимствованы Хлебниковым у автора «Листьев травы».
Не раз критики отмечали идейную и “настроенческую” близость стихотворений Хлебникова «Алферово» и Гумилева «Туркестанские генералы». Тема обоих — оскудение родовых дворянских гнезд, память о былых военных подвигах, хранящаяся среди распада традиций, запустения старых аллей и парков, поджогов дворцов и усадеб. Оба стихотворения довольно обычны по форме и написаны почти одновременно, но выраженное в них настроение, случайное для Хлебникова и более типичное для Гумилева, дает основание уступить последнему первенствующую роль в этом дуэте и думать, что Хлебников и здесь не влиял сам, а лишь поддался чужому влиянию.
Не раз отмечали также близость большой поэмы «Ночь перед советами» Некрасову. Она и в самом деле по-некрасовски интонируется; близки Некрасову её реалии и пейзажи, наконец, самый сюжет: накануне наступления Советской власти идет разговор двух старух — барыни и помнящей крепостное право прислуги. Эта старуха дожила до революции, чтобы пророчить близкую гибель барыне и рассказать ей историю своей бабки, кормившей грудью барских щенят. „Барыня, а барыня!” — „Что тебе?” — „Вас завтра повесят”. Правда Ульрика из вальтер-скоттовского «Айвенго» — фигура, по выразительности не уступающая хлебниковской Собакевне в её декоративной романтичности, — тоже могла бы предъявить свои права на почетное место в генеалогии этого литературного образа. Впрочем, где же в Ульрике тот критический демократизм или реалистический критицизм, отличавший некрасовских героинь и так добросовестно усвоенный Хлебниковым?
Кто же еще? Четвертый парус большой вещи «Дети Выдры» — «Смерть Паливоды», написанный в прозе, безусловно напомнит нам «Тараса Бульбу», ряд драматических вещей и фрагментов обнаружит свою близость «Снегурочке» Островского, в поэмах «Прачка» и «Настоящее» мы найдем строки, текстуально совпадающие со строками из поэмы «Двенадцать» Блока („по незримому врагу” „тах-тах-тах”), а если мы на этом остановимся, нам придут на помощь слушатели, знакомые с творчеством Хлебникова. Они уличат юмористические реплики Шамана в поэме «Шаман и Венера» в сходстве их интонационного строя со стихами Саши Черного; под очевидным влиянием Метерлинка написано начало пьесы о пчелах: Ты смеющиеся очи медом детей накорми — и так далее...
Всё это и так и не так. С Хлебниковым дело обстоит всегда необычно, и здесь — так же, как и во всём остальном.
Казалось бы, так легко устанавливаются все более или менее стойкие литературные влияния; как им и положено, они прослеживаются, отмечаются и что еще? Не тут-то было! Ничего, в сущности, не прослеживается и не отмечается. Да, в связи с одним отрывком, сохранившимся на клочке бумаги, нам вспомнился Северянин. Но ведь никогда никакой близости у Хлебникова с ним не было. Хлебников называл его Игорем Усыпляниным, посвятил ему однажды несколько иронических строк (в нем нет души, но есть духи, заметил кто-то) — вот и всё. Может быть, и приведенные выше строчки — начало очередного издевательского экспромта или пародии, как узнать? Другой фрагмент напомнил Гайавату, которого Хлебников знал и любил (и умный череп Гайаваты украсит голову Монблана), но что из того. Здесь перед нами не фрагмент подражательного свойства, а законченное произведение. Его ясная цель не имеет ничего общего ни с Лонгфелло, ни с Буниным, его русским переводчиком. По своему жанру это первый опыт создания живописного портрета средствами звукозаписи, и он должен был бы, скорее, приводить на память сонет «Гласные» Артюра Рембо.
Завершающий аккорд — коготь льва — принадлежит и может принадлежать только Хлебникову, одному ему и никому более. Может быть, перед нами автопортрет? Такая отгадка кажется весьма вероятной. Тем более, что принадлежит она не нам: её не раз высказывали многие друзья и соратники поэта, в том числе Асеев, Татлин и другие.
„Классическим по внутренней завершенности и безупречности формы” назвал это стихотворение в своих воспоминаниях «Полутораглазый стрелец» (с. 129) большой и тонкий знаток поэзии Бенедикт Лившиц.
В «Кузнечике», в «Бобэоби», в «О, рассмейтесь» были узлы будущего — малый выход бога огня и его веселый плеск, — скажет значительно позже сам поэт («Свояси», 1919). И снова, возвращаясь к этому своему стихотворению в одной из записных книжек, он говорит:
Впрочем, эти цветовые соответствия у Хлебникова были не слишком прочно привязаны к определенным буквам языка. В этом нас убеждает фраза в статье «Художники мира» 1919 (?):
Особенно интересным представляется «Зверинец», который с легкой руки Чуковского так прочно связали с Уолтом Уитменом. Действительно, о чем тут ещё можно говорить? В воспоминаниях Д. Козлова упоминается о том, как Хлебников ценил Уитмена, которого Козлов читал ему в подлиннике. Поэт назвал Уитмена „космическим психоприемником”, „медиумом эпохи”, который как радиоприемник принимает и отображает идеи, чувства, волевые волны человечества. Он, кажется, был польщен и “открытием” Чуковского, сближавшего их имена, во всяком случае, уже не протестовал и не обижался... Чего же больше?
Но сравним всё-таки ещё раз оба текста.
У Уитмена в «Песне о себе» читаем:
Всё.
Звери — их всего семь — двигаются, делают то, что им положено и, отметим, в проходящем не вызывают, ни единой мысли. Фраза „выдра глотает рыбу” выражает не мысль, а фиксирует действие, факт, давно уже установленный зоологами и биологами, в том числе старым Альфредом Брэмом. Пантера „снует”, аллигатор спит, а олень бодает. Смешно было бы упрекать в чем-либо Уитмена — большого талантливого поэта. Он делает то, что хочет, и делает прекрасно. Но Хлебников в своем «Зверинце», относимом к 1909 году, описывает не нетронутую природу, а зоологический сад и делает при этом уже то, что нужно ему, а нужно ему не лучшее и не худшее, а совершенно другое, и это с несомненностью видно из текста.
„Велимир Хлебников дал серию звериных метафор, может быть, наиболее богатую в мире”,— сказал о «Зверинце» Юрий Олеша («Ни дня без строчки», с. 259). Вот именно. И каких метафор! Каждая из них сверкает и переливается красками, словно драгоценный камень. Мало того: каждая поражает своей глубиной и философичностью, за каждой раскрывается мировоззрение, шумит поток непрерывно льющихся ассоциаций и всё это окрашено свойственной только Хлебникову инфантильностью интонации, не инфантильностью подростковой, свойственной самоуверенному и невежественному гимназисту, а инфантильностью ребенка, впервые видящего мир своими детскими глазами и всему впервые нарекающему новые имена, во всём подмечающего новые свойства и качества. Около сорока зверей и птиц видит он в своем «Зверинце». Все они в его восприятии остаются похожими на себя самих, но в то же время влекут за собой этот метафорический водопад. Здесь слоны кривляются как горы во время землетрясения, верблюд знает разгадку буддизма и затаил ужимку Китая, черный тюлень скачет по полу с движениями человека, завязанного в мешок, а орлы падают с высоких насестов, как кумиры во время землетрясения с храмов и крыш зданий ‹...›, в лице тигра, обрамленном белой бородой и с глазами пожилого мусульманина, мы чтим первого магометанина и читаем сущность ислама ‹...›
Это сад, где мы начинаем думать ‹...› что на свете потому так много зверей, что они умеют по-разному видеть Бога ‹...›
И где взгляд зверя больше значит, чем груды прочитанных книг.
И последнее, что должно быть нами отмечено: заметил ли автор в своем «Зверинце» людей? Они тоже есть там, но ни метафор, ни каких-нибудь ассоциаций не вызывают, они только названы в самом начале:
Таковы те, которые уже лишены способности что-нибудь видеть в саду, единственный зоологический вид, о котором нечего сказать поэту. И каким емким оказывается здесь сухой лаконизм автора, каким уничтожающе уместным...
В целом нельзя не заметить нечто общее, пронизывающее насквозь это произведение одной мыслью. Эта мысль посвящена какой-то мучающей автора религиозной проблеме. Ведь не случайность, что верблюд напоминает о буддизме, а тигр об исламе, что утки поднимают единодушный крик после короткого дождя, точно служа благодарственный молебен утиному — имеет ли оно ноги и клюв — божеству, а тюлень напоминает мучения грешников ‹...› Начинаем думать, что веры — затихающие струи волн, разбег которых — виды,— говорит автор.
Заметим, кстати, одну странность. Хлебников в «Свояси» сообщает: «Зверинец» написан в Московском зверинце. И с этим сообщением спорят две подробности, две детали в тексте произведения: во-первых, люди, посещающие зверинец, немцы. Это не описка, поскольку немцы появляются дважды; они цветут здоровьем и ходят в зверинец пить пиво. Так как в Берлине Хлебников не бывал, как и вообще за границей, то обилие немцев могло быть связано с Петербургом, где „хлебник-немец аккуратный“ ещё в пушкинские времена „отворял свой васисдас”, где жили герои «Невского проспекта» Гоголя и не переводились „василеостровские Шульцы” Лескова. И окончательно решает вопрос то, что это сад, где полдневный пушечный выстрел заставляет орлов смотреть на небо, ожидая грозы. В Москве полдневных выстрелов никогда не было, как не было в зоологическом саду и носорога, когда Хлебников в те годы посещал его. Носорога он мог видеть опять-таки в Петербурге.
Однако же далеко мы ушли от Уитмена. Впрочем, так обстоит дело с “подражаниями” и “влияниями” и в других случаях.
В свое время, выступая на вечере памяти Хлебникова по случаю пятилетия со дня его смерти в существовавшем при Институте истории искусств Комитете современной литературы, Н.Н. Пунин закончил свое вступительное слово утверждением, что „Хлебников в своем творческом пути повторил весь путь русской литературы, опередив её”. Не ближе ли это к истине?
В №2 журнала «Аврора» за 1974 год советский литературовед Б. Бурсов в статье «Творчество и интерпретации» заявил, что у всех русских великих писателей были подражатели, кроме одного только Пушкина: „Пушкин не знал подражателей”. Мы не собираемся спорить здесь с этим сомнительным в его безапелляционности утверждением, приводя имена целых поколений русских лириков разной силы и разного значения. Однако среди всех сознательно или подсознательно испытывавших влияние Пушкина, учившихся у него, любивших его и споривших с ним, не было никого другого, кто бы просто, без видимого усилия, заговорил с нами пушкинским стихом, оставаясь в то же время самим собой, легко отличимым от всех, несмотря на широкое использование пушкинской лексики, синтаксиса, повторяя порой ритм самого пушкинского дыхания в своих строфах. Это в сущности неправдоподобное явление оказалось возможным почти столетие спустя после Пушкина и было осуществлено в творчестве Хлебникова.
Вслушаемся:
Это Хлебников, «Вила и леший» (т. I, с. 122).
Надо ли напоминать, что это седьмая глава «Онегина». Мы здесь не предлагаем читателю сравнивать, но только хотим признаться, что нам не кажется существование Пушкина в литературе запрещением другому поэту дышать и чувствовать так, как дышал и чувствовал он, если эта интонация окажется для этого “другого” столь же органичной и естественной, столь же необходимой для его самовыражения именно в том виде, в каком она была создана другим великим поэтом.
Да. Здесь именно тот неожиданный случай, когда нам вовсе не обидно за Пушкина. Напротив, мы радуемся, что хлебниковская рабочая пчела гудит в той же тональности, в какой и „жук жужжал” у Пушкина. Эти насекомые столь же близки друг другу, как близок хлебниковский ручей, игравший пеной, той реке, за которой пылал, дымясь, „огонь рыбачий”, а на земле и в вышине творилась слава также и той пушкинской тишине, в которой „воды струились тихо”, и Татьяна Ларина шла, „в свои мечты погружена”.
Мы не собираемся приводить здесь десятки примеров пейзажей, столь же незамутненных декадансом поэтической культуры конца XIX — начала XX века, рисующих русскую природу столь же прозрачными красками, свойственными творчеству раннего Хлебникова. Напомним лишь начало большого стихотворения, обычно относимого к поэмам и названного «Поэт»:
Хлебников и здесь снова славит голубую тишину. Да, мы помним, что в лермонтовском «Беглеце» „Гарун бежал быстрее лани”. Что из того? Мы слышим голос Хлебникова, ощущаем мысль Хлебникова, отмечаем его интонацию, а весь приведенный отрывок завершает его удивительная метафора, которой не знали ни Пушкин, ни Лермонтов. И вместе с тем мы снова узнаем пушкинскую свободу дыхания, пушкинскую гармонию, пушкинский ритм. И вовсе не только в пейзаже прослеживается эта невероятная близость, эти соударения двух поэтических сердец, сливающиеся порой в некое удивительное единство, возможное, наверное, только между близнецами.
Вот несколько отрывков из поэмы «Игра в аду». Эта поэма, как известно, писалась Хлебниковым в соавторстве с А. Крученых. Приведем несколько отрывков, как нам кажется, “хлебниковских”:
А теперь раскроем сохранившиеся наброски Пушкина к замыслу о Фаусте. Там уже играется та же нескончаемая партия и слышатся те же голоса:
Тема, лишь затронутая нами здесь, на самом деле неисчерпаема. Вскользь её касались и продолжают касаться время от времени многие. Вот в своей автобиографической повести «Воздушные фрегаты», напечатанной в 10 и 11 номерах журнала «Наш современник» в 1973 г., Леонид Мартынов объявляет Хлебникова подражателем Боратынского, сближая, в частности, поэмы последнего «Эдду» и «Бал» с хлебниковской «Шаман и Венера». А. Панченко и И. Смирнов в своей ценной работе «Метафорические архетипы» (сборник «Древнерусская литература и русская культура XVIII–XX в.в.») цитируют Симеона Полоцкого и Кирилла Туровского, чтобы показать истоки Хлебникова, предпослав статье фразу О. Мандельштама о том, что „легче опереться не на вчерашний, а на позавчерашний день”...
Многие люди, встречавшие Хлебникова, оставили нам страницы посвященных ему воспоминаний. В них они пытались между прочим изобразить его внешность, передать свои впечатления о его голосе, фигуре, жестах, манере держаться. (К сожалению, ряд таких воспоминаний до сих пор остался неизданным. Так, не опубликованы воспоминания, рассказаные В. Дамперовой в записи А. Островского, М. Матюшина, О. Спектор, сестры поэта Веры Хлебниковой-Митурич (за исключением нескольких страничек в сборничке «Стихи» 1923 года). Существует также не слишком богатая иконография поэта, которой мы сегодня располагаем. Она включает около десятка репродуцированных в различных изданиях фото, относящихся к заключительному десяти-, или ещё вернее, к девятилетию жизни Велимира, и примерно такое же количество портретов и графических зарисовок. К ним принадлежат прижизненные наброски карандашом, пером и тушью, выполненные художниками — друзьями Хлебникова: литография Николая Кульбина, зарисовки Маяковского, Бориса Григорьева, автопортрет, два известных санталовских рисунка Петра Митурича — один, сделанный накануне смерти Велимира, и другой, помеченный следующим днем, где поэт уже мертв. Наконец, уже посмертные изображения: страшный рисунок Митурича „по воспоминаниям” 1924 года и замечательный портрет Владимира Татлина, предпосланный в репродукции сборнику «Неизданный Хлебников».
„У него глаза, как тёрнеровский пейзаж”, — бросил однажды Давид Бурлюк. Кажется, ни одной другой бурлюковской фразе не повезло так, как этой. Её передавали из уст в уста, цитировали в статьях и книгах, включали в мемуары много десятилетий спустя после смерти поэта. Между тем в ней вряд ли было больше глубины или точности выражения, чем во множестве других эстрадных импровизаций “отца российского футуризма”. Зато это было первым штрихом “словесного портрета”. Все остальные детали группировались вокруг и наслаивались на этот штрих, дорисовывая и дополняя более конкретными подробностями Лицо, которое жило вне протяжения, на холсте каких-то соответствий, по выражению самого поэта.
Приведя в своей книге «Полутораглазый стрелец» упомянутое выражение Бурлюка, Бенедикт Лившиц комментировал его так: „Действительно, какая-то бесперспективная глубина была в их жемчужно-серой оболочке со зрачком, казалось неспособном устанавливаться на близлежащие предметы” Никому больше не запомнилась „жемчужно-серая оболочка”, да и была ли она в действительности? Все настаивают на яркой голубизне и даже синеве глаз поэта.
О том, как смотрели на „этого голубоглазого мальчика в новеньком студенческом костюмчике” вспоминала его младшая сестра. „Поднял глаза неестественной голубизны”, — говорит Т. Толстая (Вечорка). „Портрет, очень удачный и прекрасно передававший несколько испуганное выражение его синих глаз, был утерян”, — так вспоминает О. Самородова “Спектор” о портрете, написанном на Кавказе Мечиславом Доброковским в 1920–1921 годах. „Большой, голубой и грустно-веселый глаз” Хлебникова вспоминает и Д. Петровский, рассказывая о своем выступлении в 1916 году в тогдашнем Царицыне.
Все отмечают, иные даже как бросавшееся в глаза несоответствие, высокий рост и тихий голос Хлебникова. „Некоторым ‹...› он был даже неприятен нарочитой, как им казалось, непристойностью всяких несоответствий... (рост — голос)”, — пишет О. Самородова “Спектор”. „Говорил он очень тихим голосом, почти шепотом, что было странно при его большом росте” (из рассказа В. Дамперовой). „Голос был у него до странности неожиданный для большого человека: высокий, детский, какой-то закругленный, похожий разве только на его почерк; губы его скорее вышептывали, чем выговаривали слова ‹...› и неприятен был контраст: голубизна глаз и гниловато-корявые зубы в паутине усов, большой рот и такой тонкий голос” (Т. Толстая-Вечорка)
Александр Лейтес отмечает как небывалый случай чтение Хлебниковым в Харькове в 1920 году стихотворения «Единая книга»:
Двое из числа авторов воспоминаний сочли, по-видимому, для себя наиболее простым прибегнуть к методу живописных аналогий, передав читателю общее впечатление от Хлебникова при помощи образов, уже знакомых ему по посещениям Третьяковской галереи.
Так Т. Толстая-Вечорка рассказывает о появлении Хлебникова в Баку. Новость сообщил ей Алексей Крученых.
О каком Иоанне Крестителе идет речь, догадаться нетрудно. Автор воспоминаний имеет в виду картину Александра Иванова «Явление Христа народу» и никакую другую, хотя выражение „лицо блаженное”, вероятно, столь же мало соответствует внешности Иоанна, как и внешности Хлебникова. „‹...› На табурете сидит в позе и обличии Христа с картины Крамского незнакомец ‹...›” — так вспоминает свое первое знакомство с Велимиром Д. Козлов («Красная новь», №8, 1927). Картину «Христос в пустыне» каждый посетитель Третьяковки легко “вспомнит наизусть”.
Конечно, люди, обращавшиеся не к описательным, а к изобразительным средствам, решали более трудные задачи. На ранней литографии Н. Кульбина 1913 г., опубликованной в книге Б. Лившица, Хлебников похож на себя и одновременно похож на большую обезьяну, точнее, на павиана, которому сильно нездоровится и которому много больше лет, чем было в то время поэту. Точный и острый карандаш Бориса Григорьева на мáстерской зарисовке, открывающей II том Собрания сочинений, напоминает замечание Б. Лившица: „В иконографии “короля времени” — и живописной и поэтической — уже наметилась явная тенденция изображать его птицеподобным ‹...› Он и в самом деле смахивал на задумавшегося аиста”. Правда чуть ниже Лившиц говорит, что „аист не обрастал очками, чтобы на следующем этапе обратиться в фарсового немецкого профессора: его духовный профиль пластически тяготел совсем в другую сторону, к кобчику-Гору”.
Отнюдь не преуменьшая того значения, которое по праву принадлежит немногим фотографиям, зарисовкам, страничкам мемуаров, знакомясь с ними, мы постоянно помним, что всё это не более чем мимолетные отражения в зеркалах чужих глаз, отдельные черточки внешнего портрета, зачастую сильно искаженного наслоениями личных вкусов, симпатий и антипатий и почти всегда непонимания.
К счастью для нас, был ещё один свидетель, один портретист, оставивший наиболее яркий, наиболее выразительный и трагический портрет Хлебникова, и таковым был никто другой, как он сам. Однако от него мы отделены глухой стеной преувеличенных нами самими трудностей слышания и понимания.
В настоящей работе всюду, где нам казалось необходимым, мы говорили от своего лица и, приводя цитаты в подтверждение наших мыслей, стремились (хотя это может быть и не всегда удавалось) ограничивать их размеры таким образом, чтобы они оставались именно цитатами и выполняли соответствующую функцию. К этому нас побуждало также и то, что даже в признаниях людей, высоко ценивших и любивших Хлебникова, то и дело обнаруживается глубокое убеждение, что читать его крайне трудно, а то и просто невозможно.
„Читать его стихи стоит большого труда — всё спутано в куче, в беспорядке. Внезапно появляется несравненная красота” — пишет Юрий Олеша («Ни дня без строчки», с. 260). „‹...› Хлебников вел свое творческое хозяйство безалаберно ‹...› он мял и терял свои записи ‹...› из-за недостатка бумаги он на одном и том же листе записывал разно задуманные вещи. Часто поэма оказывается всего-навсего циклом сверстанных воедино в разное время и по разным поводам написанных стихов. Поэтому читать Хлебникова трудно вдвойне” (Н. Асеев. «Зачем и кому нужна поэзия». М, Сов. писатель, 1961. с. 171) „Мало кто способен прочитать от доски до доски Собрание сочинений Велимира Хлебникова. А этот большой поэт продолжает оказывать влияние на современную поэзию скрытыми обходными путями: влияют те, на кого повлиял Хлебников” (И. Эренбург. «Люди, годы, жизнь». Т. 2. С. 64). „Он писатель для писателей. Читатель его не может знать. Читатель, может быть, его никогда не услышит” (В. Шкловский. Предисловие к книге Д. Петровского «Повесть о Хлебникове», Библиотека журн. «Огонек», М., 1926). Таких высказываний очень много...
„Мы ленивы и нелюбопытны”, — было сказано ещё Пушкиным. Такими были, такими остаемся. Поэтому нам и „трудно” и „мало, кто способен прочитать”. Кроме того, даже далеко не худшая часть наших критических статей и разработок, посвященных Хлебникову и не ему одному только, больна всё той же распространенной и заразительной болезнью. Для одержимого этой болезнью пушкиниста важен и значителен не столько Пушкин, сколько важны и значительны его собственные мысли и умозаключения “по поводу Пушкина”. Так во всём. Так и с Хлебниковым.
И тем не менее хочется проделать здесь небольшой опыт, предоставив слово самому поэту. Лучше всех, полнее всех сказал о себе он сам, и только сказанное им самим по-настоящему весомо, значительно, исчерпывающе. Мало того, это такая сверкающая и обжигающая сердце поэзия, что одна она только и может приблизить читателя к пониманию, которого заслуживает и в котором нуждается Хлебников. Мы предоставим ему слово и уже не позволим себе прерывать его какими бы то ни было замечаниями, восклицаниями и разъяснениями. Мы хотим, чтобы читатель слышал сейчас его и только его голос. Но мы не забыли и о настойчивых заявлениях, что „читать трудно”, что „мало кто способен” и т.д. Поэтому мы собрали вместе, приведя в логическую связь, иногда разновременные и относящиеся к разным произведениям строки поэм, писем, заметок, посвященных не фактической стороне автобиографии поэта, а именно раскрытию его творческого пути и образа, своей литературной задачи и остро им ощущаемой литературной трагедии.
Итак, прислушаемся к голосу самого Велимира.

| Персональная страница Сергея Николаевича Толстого | ||
| карта сайта | 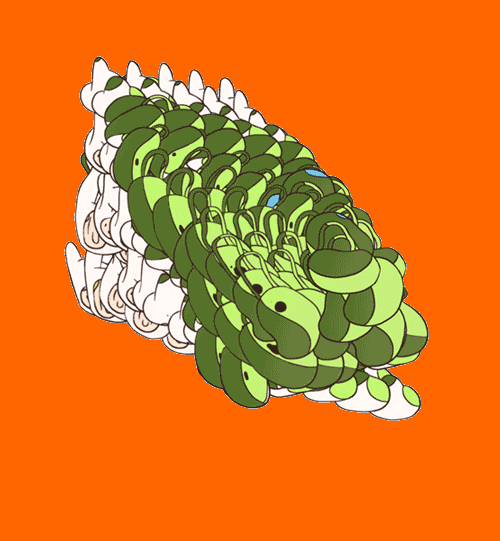 | главная страница |
| исследования | свидетельства | |
| сказания | устав | |
| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||