

Фигура Хлебникова как была, так и остается загадочной…
В. Перцов. «Новый Леф», 1927, № 8–9
Велимир Хлебников — самая странная и загадочная фигура.
З. Паперный. «Русская литература 1908–1917 гг.
 «Воспоминаниях» артистки Валентины Веригиной, изданных в 1974 году издательством «Искусство», знакомство с Хлебниковым относится к 1914 г.
«Воспоминаниях» артистки Валентины Веригиной, изданных в 1974 году издательством «Искусство», знакомство с Хлебниковым относится к 1914 г.1903 год. Декабрь. Третье число. Хлебников — студент физико-математического факультета Казанского университета. За участие в студенческой демонстрации, состоявшейся 5 ноября, в годовщину университета, он сидит в пересыльной тюрьме. Всего их, арестованных, 35 человек. До освобождения осталось уже совсем немного: они должны отсидеть месяц.
В этот день им написано наиболее раннее из опубликованных писем — родителям. Он ждал, что кто-либо из них придет к нему на свидание, но почему-то никто не явился. Адресаты письма живут неподалеку, в том же городе, но их окружает мир совершенно иной. А в пространстве, ограниченном стенами тюрьмы, и протяженность времени совершенно отлична: время там и здесь — совершенно разное время: часы, дни, сутки... Студенты стараются не поддаваться принудительному ритму, царящему здесь; они получили “с воли” книги и проводят дни в усиленных занятиях.
Здесь знаменательно упоминание профессора Васильева, немало способствовавшего распространению идей Лобачевского, умевшего увлекать студентов своими лекциями о неэвклидовой геометрии, созданной великим русским ученым, привлечь их внимание к удивительной независимости и непредвзятости логических построений этого замечательного исследователя и истолкователя геометрии пространства.
Помимо занятий студенты посвящают свои досуги пению и рисованию. Виктор нередко принимает участие в хоровом пении. Его голос слаб и еле слышен. Он вряд ли способен что-либо добавить к хору молодых певцов, но ему кажется, что он поет вместе с остальными, и это главное. В вечерние часы, когда лучи раннего декабрьского заката скользят по небольшому оконцу с решеткой, им кажется, что эта решетка бессильна подавить их волю, внушить им сознание заточения, психологию узников тюрьмы. Они чувствуют себя свободными и сильными несмотря ни на что. Когда, преодолевая запоры и стены камеры, слова любимых песен «Нелюдимо наше море» и «Из страны, страны далекой» вырываются на волю, Виктор особенно ясно чувствует, что никто и ничто не может отнять у него это ощущение внутренней неподвластности обстоятельствам, которым они дышат.
На стенах камеры он срисовывает головы с иллюстраций из журнала «Жизнь» и искренне удивлен, получив за это замечание надзирателя. Это оказалось нарушением тюремных правил, и я их стер, — признается он в письме.
Чем же ещё заполнены дни? Это, кажется, всё. Занятия по студенческому курсу, рисование — до тех пор, пока его не запретили, пение, короткие прогулки на тюремном дворе, свидание с родными... Ни одного упоминания о стихах, о каких-либо литературных пробах, относящихся к этому времени, мы не находим ни в этом письме, ни в воспоминаниях родных. Правда, в том же письме встречается загадочная фраза: У меня есть одна новость, которую я после расскажу. Но этого слишком мало даже для догадок. И без того нам достаточно ясно, что первые литературные попытки, если они и были до начала 1904 года, играют столь малую роль в жизни Хлебникова, что перед нами ещё не тот Велимир, которому достаточно было иметь под рукой карандаш и бумагу, чтобы в любых обстоятельствах, при любых условиях писать и писать.
Однако же, если не подвергать сомнению (что почти всегда уместно, когда дело идет о раннем Хлебникове) датировку наиболее раннего поэтического произведения, помеченного издателями также 1903 годом, то мы отнесемся с особым интересом к этому, быть может, первому проявлению в студенте Викторе Хлебникове будущего Велимира. Можно думать, что это стихотворение, представляющее собой „опыт подражания фольклорному стиху“, как говорится в комментариях сборника «Неизданный Хлебников», в котором оно впервые напечатано, и действительно написано не позже начала 1904 года. Это не исключает предположения, что оно создано в одно время с цитированным выше письмом. Вот и стихотворение:
Итак, “опыт подражания фольклорному стиху”? Определение комментатора Н. Харджиева было отмечено рецензентом Цезарем Вольпе в №1 «Литературного обозрения» за 1941 год: „‹...› Показаны фольклорные истоки хлебниковской поэзии“ — хотя об истоках в комментарии ничего не говорится. Да и нужно ли подробнее останавливаться на юношеском подражании сказочному фольклору, особенно если такое подражание легко признать посредственным и недоработанным, имеющим весьма небольшое значение в художественном отношении. Нам такое объяснение кажется недостаточным. Формальный анализ никогда не раскроет эмоциональной стороны того, нередко подсознательного, импульса, без которого не может быть создано никакое, даже и самое малозначительное произведение.
Так температура тела наседки, химический состав яйца, длительность насиживания не могут не учитываться при определении суммы условий, определивших появление цыпленка. Но если бы в яйце не было оплодотворенного зародыша, не было той пульсации, той “прыгающей точки”, подсмотренной ещё Аристотелем, которая начинает самостоятельно вибрировать уже через какие-нибудь сутки экспозиции в соответствующих температурных условиях, задолго до того, как эта точка станет сердцем, вбирающим и выталкивающим кровь, цыпленка не получилось бы. Так и в данном случае. Сам по себе текст приведенного стихотворения с достаточным основанием свидетельствует, что нам следует исключить мысль о подражании ради подражания. В дальнейшем рассмотрение более поздних произведений ещё ярче покажет нам, что, вопреки распространенной легенде, у Хлебникова, даже в самых заумных его вещах, в его корнесловии, в словах, освобожденных, казалось бы, от всякой смысловой нагрузки, всегда присутствует целевое осмысленное начало. Если он оперирует звуками, корнями слов, отдельными согласными или слогами, то лишь потому, что для него они полны смысла, нередко ещё более широкого и полного, чем грамматически правильно построенные предложения. Они для него — источники глубин таинственных и прекрасных, потому что это — семена всемирного языка, мудрость, вскрывающая световую природу мира. А это самая великая, божественная, по его выражению, мудрость.
Вернемся к стихотворению. Кого мы видим в нем: красну-девицу и зелену-лягушечку. Вторичное действующее лицо буен-молодец, который не появляется, но один только может исправить причиненное им зло. Откуда же эта трогательность интонации по отношению к лягушечке, такое бережное сожаление о её участи? Что это за сундучки-рундучки и что за буен молодец, который, ограбив лягушечку, не присвоил, а, походя, повыкидывал сундучки-рундучки — её единственное богатство? Наконец, кто такая красавица-девица, к которой апеллирует потерпевшая?
Уяснить это можно, только обратившись к внутреннему миру молодого автора.
Два силовых луча обогревали своим теплом этого птенца в первые годы его духовного роста. Отец — естественник, орнитолог, и мать, историк по образованию, музыкантша и любительница литературы. С отцом вслушивался он в звонкое пение птиц и учился понимать их, с матерью любовался закатами и впервые знакомился с русскими сказками, былинами, страницами летописей, посвященными битвам и подвигам Святослава, Дмитрия Донского, Игоря Новгород-Северского...
Позднее, в письме к Крученых, он вспомнил о накопленном предками тепле. Вероятно, вспоминал о нем не один раз. Рассказы о прошлом народа воспитывали в Викторе любовь к этому народу и творчеству народному. Одновременно с этой любовью росло и ощущение какого-то большого неблагополучия, существующего в мире. Конфликт чиновничье-бюрократического уклада самодержавной России, сталкивавшегося повсюду с брожением революционных идей и настроений, проникал в юношу с детства через учителей, разговоры старших членов семьи и настойчиво требовал вынесения своих приговоров и решений, но свое отношение к происходящему едва только родилось и начало оформляться к началу студенческой жизни. Здесь ему предстояло усиливаться и крепнуть. В интуитивной основе лежало чувство глубокой обиды за свое национальное достоинство. Самоцветы подлинно народного духа, его напевы и сказания рассеяны и пораскиданы. В разговорном языке — галлицизмы, пруссизмы, латинизмы, привнесенные извне и органически чуждые его истокам. Встретились два студента. „Откуда, геноссе?“ — „Из нашей альма-матер, коллега. А вы?“ — „Был у X.“ — „И что он?“ — „Замкнут и необщителен, как кантовский ноумен. Мы встречаемся спорадически, и поэтому его эволюция особенно рельефно говорит о тяготеющей над ним предистинации...“ Что, в сущности, всё это значит? По-каковски?... В философии — принятые на веру без критического осмысления и не переваренные как следует построения модных ещё вчера на западе мыслителей, в бюрократической организации армии и правительственного аппарата — чванная иерархия немецкого образца, и всюду робкая оглядка провинциала-россиянина на свою извечную столицу — Европу. В литературе безнадежное пессимистическое нытье или разнузданная арцыбашевщина. Где выход из всего этого?
Ответ молодого Хлебникова — ответ не рассудочный, а подсказанный всеми особенностями его характера, вкусов, воспитания. Этот ответ — новое славянофильство: пора стряхнуть с себя всё навязанное и привнесённое извне, собрать в общую сокровищницу созданные славянством — русским, балканским, угрорусским, северным — ценности. Есть ещё на Волге, Днепре, Печоре и Онеге небрежно разбросанные и никем не охраняемые крупицы этих сокровищ. Пора покончить с преждевременным старческим истощением самого молодого из евразийских народов...
И вот грустит всё размыкавшая красна-девица Россия и расквакалась невнятным кваканьем зелена-лягушечка — русская речь.
— Али мне без тебя не тошнехонько? — спрашивает девица. Стало быть, ей ещё тошнее от этого унылого кваканья.
— Мне ли не плакать, — отвечает лягушечка. — У меня ли сундучков-рундучков было мало ... Я ли их не стерегла-берегла?
Еще бы! Сквозь годы тягчайшие испытаний, сквозь столетия татарщины пронесла свои рундучки с укрытым в них русским словом и русской былью.
Но кто же этот буен-молодец, который, повторяем, не завладел сундучками, а без всякой пользы повыкидывал накопленные лягушечкой богатства, без которых ей недужится и жить невмоготу? Народ? Нет. Но лишь та его культурная часть, которая так легко утратила, забыла свои неповторимые национальные черты. От Петра, прорубившего “окно в Европу”, через слезливый романтизм Карамзина, через Белинского и Чаадаева, Герцена и Чернышевского, Тургенева и Чехова прошел этот опустошающий суховей. И не стало дорогих сундучков. А что же выросло на их месте? Табель о рангах? Сенат? Государственная дума и Святейший правительствующий Синод? Да ещё эта “альма-матер” — университет, студенты которого всё реже поют русские песни, а чаще квакают на каком-то диком жаргоне?
А литература? Что в ней? Бьется ли ещё какой-то незамутненный родник? Может быть, но всё глуше, всё медленней бьётся. Пора поднять знамя возрождения, оценить и вновь собрать всё растраченное, раскиданное наследство.
В тот период только такой смысл, думается, и мог вложить Хлебников в свою сказочку или песенку, а ведь песенка — лесенка в сердце другое, — скажет он позже. Вот и сказочка также. Тогда не случайно выбран и прием, а то, что это нехитрое произведение не является простой стилизацией, а имеет скрытый смысл, и смысл этот продиктован тем, что в то время казалось ему наиболее существенным, вряд ли требует особых доказательств.
При таком её понимании, эта сказочка, думается нам, представляет собой как бы то зерно, из которого несколько позже вырастает большая часть вещей, написанных в период, предшествовавший войне 1914 года — первый период творческой работы поэта. Эта сказочка служит как бы прологом к большинству ранних произведений Хлебникова и в этом её непреходящее значение. Мы, вероятно, так и не узнаем, она ли была той новостью, которую он собирался сообщить родителям по выходе из тюрьмы, но сами мы оценим её по достоинству, как новость, раскрывающую нам нашего поэта у самых истоков его творчества.
В следующем, 1904 году, как мы узнаем из двух дошедших до нас писем, Хлебников впервые посещает Москву.
В первый же день он с шести утра до восьми вечера бродит по улицам города. Вчера у меня был такой (может быть, истощенный) вид, что все оглядывались, — сообщает он.
За день были осмотрены: Третьяковская галерея, где больше всего понравился Верещагин (!?), а многие вещи разочаровали, Исторический музей, Тургеневская читальня. На следующий день Виктор посетил Румянцевский музей, где его внимание привлекла «Победа» Кановы и бюсты Пушкина и Гоголя. И снова Исторический музей. История (прошлое) влечет его всё сильнее.
В этот же день им сделан опыт примерного существования и он с удовлетворением сообщает родителям, что вегетарианцу существовать на 10 копеек в день безусловно можно.
На третий день своего пребывания в Москве Хлебников снова в Историческом музее.
С Москвой я теперь так освоился, что не представляю себя иначе, как в Москве, — пишет он. В этот день он отравляется на Большую Якиманку, чтобы осмотреть незадолго до того построенный дом Игумнова с его изукрашенным многоцветной керамикой фасадом псевдорусского стиля. Спрошенный мной извозчик сразу ответил, как найти, и добавил: „Очень хороший дом“. Так как простые люди обычно не ценят архитектуры, то, очевидно, этот стиль наиболее близок и понятен русскому человеку. Иначе извозчик не выделил бы его. А раз так знают, только этот стиль может быть национальным русским стилем.
В этом отрывке из письма уже отчетливо слышится голос фантаста-мечтателя с его нередко наивными стремлениями строить обобщающие выводы на основе случайно подвернувшейся детали. Его ассоциации не знают удержу. Он собирает всё, всё несёт в свою копилку, чтобы вновь выпустить оттуда окрыленное мыслью. Так ласточка лепит гнездо, повсюду собирая пушинки, сухие травинки, крепя их своею слюною, чтобы дать начало новой жизни. Вот так и молодой поэт, не пренебрегая ничем (ему кажется, что будет ещё время отбросить всё, что окажется ненужным), готов в ответе извозчика прочитать подтверждение своим собственным тайным мыслям...
Я бы заставил в семинариях преподавать архитектуру, — пишет он далее в очередном письме, — потому что здешнее духовенство совершенно не умеет хранить памятники старины. Здесь очень много древних церквей; когда-то они были очень красивы и своеобразны. Теперь же, благодаря небрежности духовенства, это обыкновенные, выкрашенные в желтый цвет и обитые зеленым железом церкви. Иногда даже можно бывает видеть старинные лепные украшения, грубо заштукатуренные.
Впоследствии этот интерес к старинной архитектуре несколько ослабеет, но отзовется кое-где в поэмах, заметках и стихах двумя-тремя сверкающими строками или образами, которые интересно было бы свести вместе и рассмотреть как одну из множества самостоятельных тем творчества поэта.
В этом же 1904 году был написан и самый ранний из дошедших до нас прозаических отрывков Хлебникова: «Пусть на могильной плите прочтут...»
При всей существовавшей в действительности, но ещё более неумеренно раздутой биографами и комментаторами хаотичности и неорганизованности хлебниковского таланта, этому поэту, быть может, в большей мере, чем многим другим из его современников, было свойственно повышенное чувство ответственности перед самим собой; ощущение какого-то предназначения, потребность наметить тот или иной отрезок своего жизненного пути, а пройдя его во времени, оглянуться и придирчиво спросить себя, выполнено ли всё намеченное ранее, — всегда сопутствовали Велимиру.
И таких моментов мы в его жизни можем насчитать не менее трех. Первый — время написания названного отрывка, датированного им самим 24-XI-1904 г. Он обращен к будущему и написан в форме автоэпитафии, выражающей пожелание выполнить всё, что поставил он в качестве задания для своей жизни.
Второй раз, через семь лет, в 1912 году, в письме к Вяч. Иванову, он сделает попытку объяснить себя и свое творчество в настоящем. Это письмо совпадает для него с периодом крайних разочарований. Но не менее глубоко и проникновенно выражено в нем определение своей души как острова, служащего воплощению великих теней прошлого. (Интересно, что этот образ развертывается в начале 1913 года — см. 5-й парус поэмы «Дети Выдры», вещи, которой он придавал большое значение).
Третий раз, спустя ещё семь лет, в лаконическом отрывке «Свояси» 1919 года, он дает собственную оценку наиболее значительным для него вещам. И эти три странички не случайно звучат как завещание поэта перед последним путем на Голгофу заключительного трехлетия его жизни, когда он ещё раз оглянулся назад и подвел итоги проделанной работы.
Однако вернемся к нашему отрывку.
Пусть на могильной плите прочтут: „он боролся с видом и сорвал с себя его тягу“. Остановимся пока на этом. Припомним: это написано в конце 1904 года. Юному Виктору только что минуло 19. Он студент-естественник. Для него стало в какой-то мере привычным ощущение того места, которое он в качестве человека занимает на биологическом древе, объединяющем все виды, населяющие нашу планету. Ну и что же? Да, он Гомо сапиенс, и как таковой ощущает свое кровное родство со всем живым на планете: с млекопитающими и пресмыкающимися, даже насекомыми. Но, вместе с тем, есть свойственная виду тяга, притяжение, говорит он, и позволительно считать, что он имеет в виду тягу к зоологическому и только зоологическому существованию, ограниченному во времени циклом развития и последующего угасания. С этой-то тягой решил он бороться и хочет победить её в себе, сорвать с себя, стать выше, потому что он — не только представитель вида, вернее, больше, чем только представитель.
Евангельскую заповедь Возлюби ближнего как самого себя он настойчиво хочет распространить на благородные животные виды и не отказывается от своего родства с ними.
Вот как он сам пишет об этом:
Он высоко поднял стяг галилейской любви, — читаем мы несколькими строками ниже. Галилейской, то есть евангельской. Может ли здесь быть сомнение?
Несколько забегая вперед, присмотримся к написанному четырьмя годами позже, во второй половине 1908 г., наброску стихотворения «Мы воины».
На какую же брань собрались эти воины, вернее, один воин, несущий в себе, однако, глубокое убеждение: нас много. Какие серые рати надеялся он согнуть верой и огнем, то есть, по-видимому, тем оружием, которого они лишены?
К этому у нас ещё будет случай возвратиться ниже, а пока вернемся к тексту нашего отрывка.
Что нам напоминают эти строки?
Они похожи на намеренно косноязычное изложение «Вакхической песни»:
Но там это отлилось в законченную форму, а здесь всего лишь программное начертание.
Необычность мыслительных ходов, непривычное для нас самовыражение сказывается всего более в самом замысле отрывка: написать проект эпитафии для своей могильной плиты, подытожив в этой эпитафии то, что ещё только намерен совершить. И это пишет юноша, который вовсе не собирается умирать, а, напротив, думает жить и жить долго. У всякого другого такой замысел был бы головным эстетским вывертом. У Хлебникова — это он сам — весь. Будущее, прошлое, настоящее, — его мысль свободно перемещается в них во всех направлениях, для неё они являются неким единством, охватываемым собирательным понятием — Время. А личный идеал его, говорит он далее, — это идеал рабочей пчелы, и общественное устройство, по его мнению, должно быть подобно организации пчелиной семьи в улье.
Вот он какой, этот красивый задумчивый казанский студент. Многого же хочет он добиться!
Только ли разум человеческий он имеет здесь в виду, ставя своей целью его изучение и истолкование? Будущее покажет, что нет, и что речь у него идет о мировом разуме.
Здесь, разумеется, ничто не должно пониматься слишком буквально. Так, например, институт изучения дородовой жизни ребенка, конечно, не какой-либо институт эмбриологии. Такая наука существует, и Хлебникову это отлично известно. Но он, видимо, подозревает, что, кроме физического развития плода, совершается и ещё нечто. Когда именно и каким путем смерд-ткань (его выражение) становится князь-тканью? Не идет ли наука мимо чего-то наиважнейшего? И на что нужен ему микроб прогрессивного паралича? Мы вряд ли ошибемся, если поймем, что он собирается бросить вызов какой-то страшной болезни, терзающей человечество. Прогрессивный может иметь два смысла: это и прогресс, и прогрессирующий, то есть развивающийся, но развивающийся на ложном пути и в ложном направлении. Речь идет о микробе, ведущем при своем развитии к болезненному параличу князь-ткани. С таким толкованием можно было бы спорить, упрекая автора в бездоказательности, но лишь до поры до времени. Оно достаточно ярко подтверждается многими последующими высказываниями Велимира.
А что означает метафорический образ Земли — степного зверька, перебегающего от кустика до кустика? Всё в настоящем. Удивительная беззаботность относительно будущего. Не дальше ближайшего кустика — вот и весь кругозор. Это беззаботность незнания, неведения полного и глубокого. Земля, то есть человечество, населяющее планету, принимает как стихийные бедствия не только ураганы и землетрясения, но также и войны, и другие следствия собственной, якобы “разумной” деятельности. С огнем и верой будет сзывать несколько позже Хлебников неведомых друзей выступить против серых ратей. Покончить с незнанием, но кроме незнания-неведения есть и воинствующие нежелание знания, противодействие знанию. Вот кто настоящий противник, с кем предстоит скрестить мечи, вернее, тот пророческий меч, на который претендует вдохновенный юнец.
Далее наш автор переходит к пяти чувствам: Пять ликов, их пять, но мало. Отчего же не одно оно, но велико? спрашивает он, сетуя на разобщенность и несовершенство этого оружия для предстоящей битвы. Ведь пять чувств — это вооружение князь-ткани. Автор сравнивает ощущения, доставляемые нашими чувствами, с геометрическими фигурами, обособляющими части некой умозрительной плоскости.
Хлебников убежден, что
Мы вольны понимать эти слова как мистическое откровение или же как интуитивно угаданную их автором новую “теорию относительности”, в которой он, быть может, только предтеча грядущего Эйнштейна. Но мысль при всей её необычности выражена настолько ясно, сила и своеобразие хлебниковского мышления предстают перед нами в своем синтезе научного и поэтического мирообобщения и мироощущения столь характерными именно для него, что нам кажется оправданным привлечь внимание читателя именно к этому раннему отрывку с его программным высказыванием.
А сейчас мы ненадолго вернемся к нашим сундучкам-рундучкам и лягушечкам. Как? Опять? Да, что делать. Ведь приведенный выше наш комментарий к юношескому стихотворению «Как во лодочке» мог показаться читателю сомнительным. Признаемся откровенно — таким он не переставал казаться и автору настоящей работы, который, написав её первую главу, отложил её на ряд лет и не мог приняться за продолжение именно поэтому. Ведь если признать наше толкование произвольным, и скрытый смысл стихотворения начинающего автора разгадан нами неверно, так зачем и огород городить, а тем более продолжать в том же роде? Почему незрелое стихотворение начинающего, хотя бы и талантливого автора, следует толковать не как неуверенную попытку стилизации, а как имеющую некий скрытый смысл? К чему находить в нем результат размышлений о судьбах русского слова, русской литературы в их настоящем и будущем. Не придумано ли это? Есть же русская сказка о Царевне-лягушке. И появилась она за века до рождения Хлебникова. Разве было бы удивительно, если бы он написал какую-то свою вариацию на известный сюжет сказочного фольклора, не слишком удачную и вовсе не имеющую какого-либо скрытого смысла. Почему надо ожидать этого смысла от семнадцатилетнего поэта? Ведь написал же молодой Гоголь под псевдонимом В. Алова, идиллическую поэму «Ганц Кюхельгартен», известную ныне только литературоведам. А первый сборник стихов Некрасова «Мечты и звуки»? Разве скрыты в них какие-то тайные смыслы? И кто только не писал в юности плохих стихов. И, наконец, если уж ставить такую гипотезу, надо её чем-то и обосновать. Но разве кто-нибудь может ответить на такой вопрос, если на него не ответил сам автор. А может быть, всё же ответил? Да! Именно так. Потому что Хлебников удивительным образом отличается от других писателей и поэтов тем, что он часто прямо отвечает на вопросы подобного рода, отвечает неожиданно и вовсе не там, где обычно ищут таких ответов исследователи, отвечает иногда быстро, но не вполне ясно, а иногда, спустя многие годы, терпеливо растолковывая своему читателю точный и обстоятельный смысл загадочного намека, образа или метафоры, брошенных когда-то словно невзначай.
Не раз уже мемуаристы и исследователи творчества Хлебникова пытались изображать это творчество как непроизвольный и, по существу, неуправляемый процесс, будто бы почти подсознательный или, напротив, чуть ли не сродный какому-то физиологическому отправлению своей бесконтрольностью, неподчиненностью осознанным душевным движениям.
Между тем, изучая характерные особенности творческого процесса Хлебникова, мы непременно заметим не только разбросанные и утерянные рукописи, разбросанные клочки поэм и стихотворений, о которых не забывали упомянуть, кажется, все без исключения писавшие о поэте, но также характерное для него и, пожалуй, только у него так ярко выраженное, постоянство образных структур. Эти структуры нередко возникают неясными туманными тенями в каком-нибудь стихотворном или прозаическом отрывке, упомянутые торопливой скороговоркой, и остаются здесь непонятными читателю и так и не разъясненными. А где-то в другом месте и в другое время, по иным поводам и в иных контекстах он возвращается к ним, и, оказывается, они были ему хорошо памятны в течение многих лет и он вовсе не хочет оставлять их на произвол судьбы и нашего читательского непонимания.
Поэтому нам кажется, что одним из важнейших и необходимейших условий изучения Хлебникова должно стать именно прослеживание и раскрытие таких образов, по-разному и вместе с тем однозначно раскрывающихся в разные годы и в разных произведениях. Поэтому имеет для нас такое значение и догадка, высказанная по поводу наиболее раннего стихотворения. Если она неверна, мы не чувствуем за собой права настаивать и на многом другом, потому что важно обосновать самый принцип подхода, который мы избираем, чтобы заново прочесть творения нашего поэта. Этот прием, или принцип, опирающийся не на односторонний, чисто формальный анализ, а на постижение внутреннего миросозерцания и психологической направленности творчества поэта и свойственной ему философии истории, кажется нам особенно обещающим и плодотворным.
Применяя нашу рекомендацию к практическому вопросу о задаче стихотворения «Как во лодочке», попробуем проследить: не встретимся ли мы с действующими лицами этого стихотворения где-нибудь еще. Правда, буен-молодец понятие слишком общее. Да и то только на первый взгляд. В сказках и фольклоре он всегда добрый молодец. И, наверно, очень он недобрый, если ни разу не употребил Хлебников этого, так и наворачивающегося на язык, определения. Но вот главная “героиня” — лягушечка... Не на неё ли стоит в первую очередь обратить наше внимание? Не заквакает ли она где-нибудь снова, не подаст ли голос? Вот один из таких ранних фрагментов:
Значит, лягушечка могла быть не только сказочной царевной, но также барыней или девой... Между этими состояниями поставлены отчетливые знаки равенства. Лягушечка = существо женского рода = барыня = дева.
Это не столь уж многообещающее открытие. Но последуем дальше: не обозначатся ли и другие следы? И находим: примерно лет через двадцать — в недолгой жизни нашего поэта срок необъятно длительный:
Что такое? Пушкинские герои появляются здесь уже владельцами? — Нет, скорее, насельниками каких-то болот. Кваканье — принадлежность этих болот. Там идет (происходит) кваканье — лягушек? Нет, как бы лягушек. Лягушке естественно квакать, больше она ничего и не умеет. А призыв полно лягушкою квакать обращен, конечно же, не к лягушкам, а к тем, кто, не будучи ими, тем не менее почему-то квакает. Закономерный вопрос: не русская ли литература — упоминаемые болота? Можно также предположить, что “как бы” лягушачье кваканье увязших в этих болотах, увязших ещё с пушкинских времен, времен ссоры Онегина и Ленского, вызывает несомненную досаду будетлянина — футуриста, досаду, потому, что он хочет нести в эти болота свое, новое понимание языка, слова, даже буквы...
Ну а почему же всё-таки ссора Онегина с Ленским зеленая? Ведь она происходила зимой и, как помнится, „Зарецкий бережно кладет на сани труп заледенелый“? Вернее всего, что в хлебниковском черновике перед словом зеленой стояла или должна была стоять запятая. Таким образом, перед нами обычная в поэзии инверсия, и прилагательное относится вовсе не к ссоре, а всё к той же лягушке. И не подтверждают ли обнаруженные здесь литературные болота нашей догадки, не подводят ли под неё новый, более прочный фундамент.
В пятом томе Собрания сочинений, упоминая о Пушкине как о поверхности, отражающей законы времени, Хлебников говорит: Пушкин вполне оправдывает свой сан подопытного лягушонка, и колебательный закон времени легко проверяется на его творчестве (разд. «Из записных книжек», с. 271–272).
О лягушке, кажется, всё. Но приведем ещё один-два примера того, как раскрывает Хлебников свои образы не сразу, а позже, и там, где это оказалось для него нужно.
Возьмем стихотворный отрывок «Если я обращу человечество в часы», написанный в начале 1922 года и напечатанный в «Вестнике Велимира Хлебникова», а затем в первом листе «Досок судьбы».
Здесь мы встречаем четыре загадочных строчки:
К вопросу о расшифровке образа девушки с бородой В.Д. Ануфриев высказал предположение, что цитированные автором слова бросит обещанный камень восходят к конкретному тексту: „и дам ему белый камень и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает“ (ОТКР. 2–17). И снова, как это не раз уже бывало, это предположение укрепилось неожиданным подтверждением самого Хлебникова.
Статья «Метафорические архетипы» А.М. Панченко и И.П. Смирнова раскрылась на приведенной авторами цитате из поэмы Хлебникова «Война в мышеловке»:
Пытаясь расшифровать смысл последнего четверостишия, авторы статьи пишут:
Можно заметить, что как появление „Нового Мессии“, так и „пикник“ (?) по поводу этого появления, — реалии, не встречающиеся в тексте поэмы Хлебникова, они додуманы авторами статьи «Метафорические архетипы» — статьи весьма интересной и глубокой, но в объяснении приведенной цитаты, нам кажется, далекой от истины. В то же время повторяющийся эпитет обещанный, приложенный то к камню, то к имени, несомненно и настойчиво уводит нас к апокалиптическому тексту. А то, что Хлебников уделял большое внимание эсхатологической проблеме и основательно знакомился как с научными, так и с религиозными аспектами этой проблемы, не вызывает сомнения. Неясными остаются воротнички поэмы «Война в мышеловке». Остается открытым вопрос: что с ними делать? Этот вопрос поставил Хлебников и он же определил альтернативу: что будут делать люди, не имевшие и теперь получившие воротнички? Можно их развесить на сучках, сохраняя их нетронутую белизну, но можно использовать как своего рода “шпаргалки” для запоминания новых имен как величайшей ценности, потеря или забвение которой в данных условиях было бы катастрофично. Нам можно поставить в упрек выражение “шпаргалки”, указав, что оно столь же неудачно, как осуждаемый нами „пикник“, но Хлебников постоянно применяет свою иронию и само по себе появление проблемы воротничков напоминает об этом.
Можно биться об заклад, что ничей пытливый ум не проникнет в смысл этого четверостишия и не расшифрует, о ком и о чем идет в нем речь. Иное дело, если мы читали и помним написанную незадолго перед тем, в конце 1921 года, поэму «Ночной обыск». Там пьяный матрос, только что совершивший очередное убийство, разговаривает, обращаясь к иконе Христа. Он говорит: девушек лицо у Бога, но только бородатое. Я знаю: ты девушка, но с бородой, ты ходишь в ниве и рвёшь цветы, плетешь венки и в воды после смотришься. Вот, оказывается, где надо искать ключ к этому неожиданному образу.
Таких примеров у Хлебникова мы находим множество и будем говорить о них в дальнейшем не раз. Пока же вот один еще. Старец с белой бородой — не то человек, не то бес — идет молча, не отвечая на вопросы; только нес он белую книгу и стояла на ней глаголица старая: бойтесь трех ног у коня, бойтесь трех ног у людей. Что же это за скрижаль с единственным и таким по виду многозначительным афоризмом? Можно гадать: три ноги у коня — мало, у человека — много. Значит, в обоих случаях есть общее: нарушение гармонии ведет к возникновению уродства. Только-то? Разве об этом никто не догадывался раньше? Оказывается, если поискать, мы найдем и значительно более ранние мысли и строки, посвященные “трехногим”. Они будут встречаться неоднократно и в разных местах и говорить о них мы ещё будем при дальнейшем изложении.

| Персональная страница Сергея Николаевича Толстого | ||
| карта сайта | 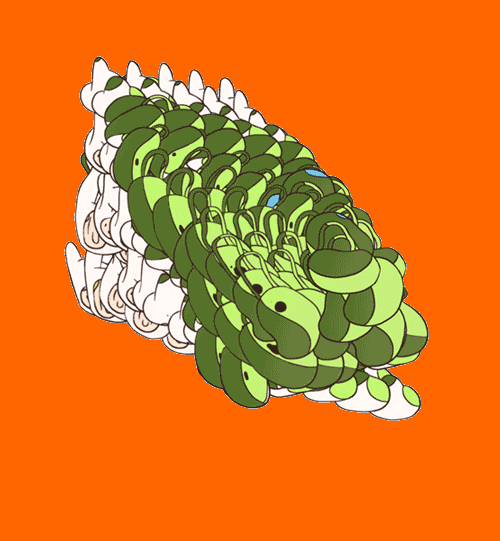 | главная страница |
| исследования | свидетельства | |
| сказания | устав | |
| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||