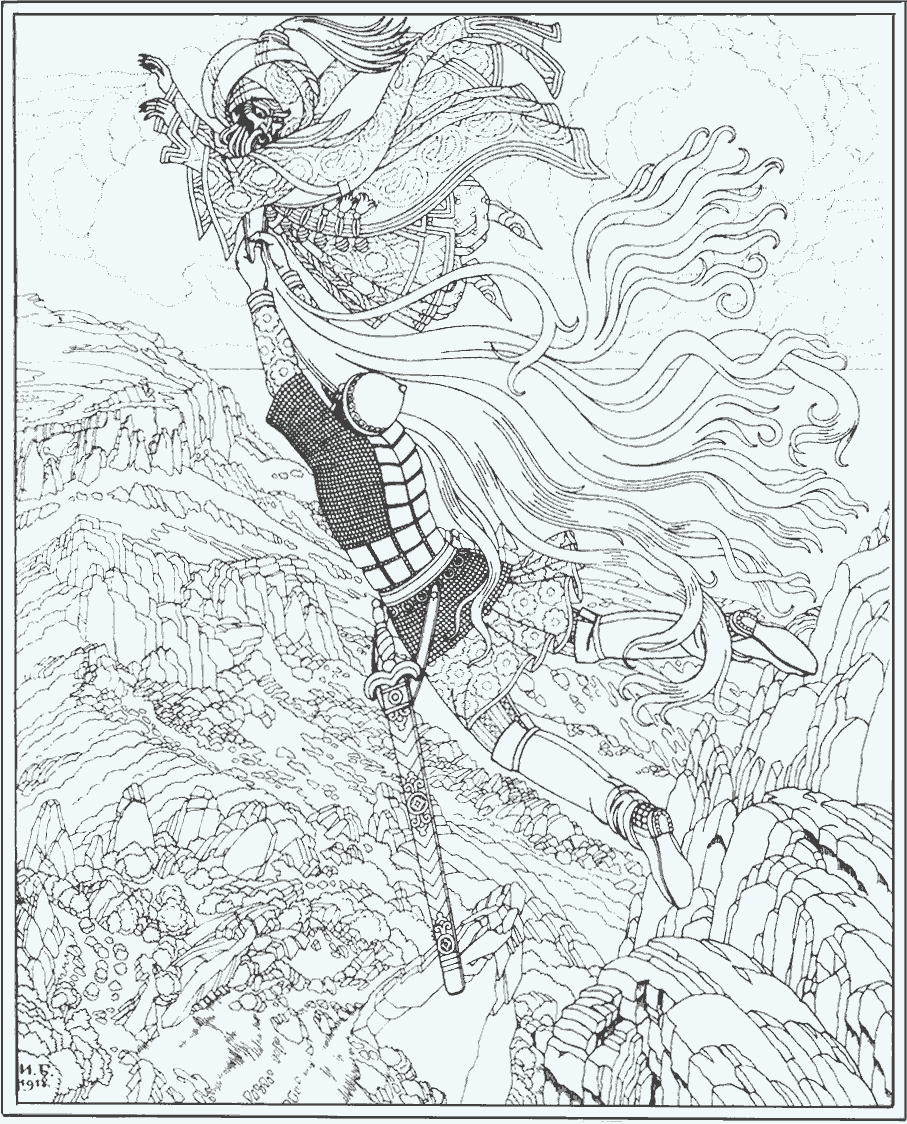
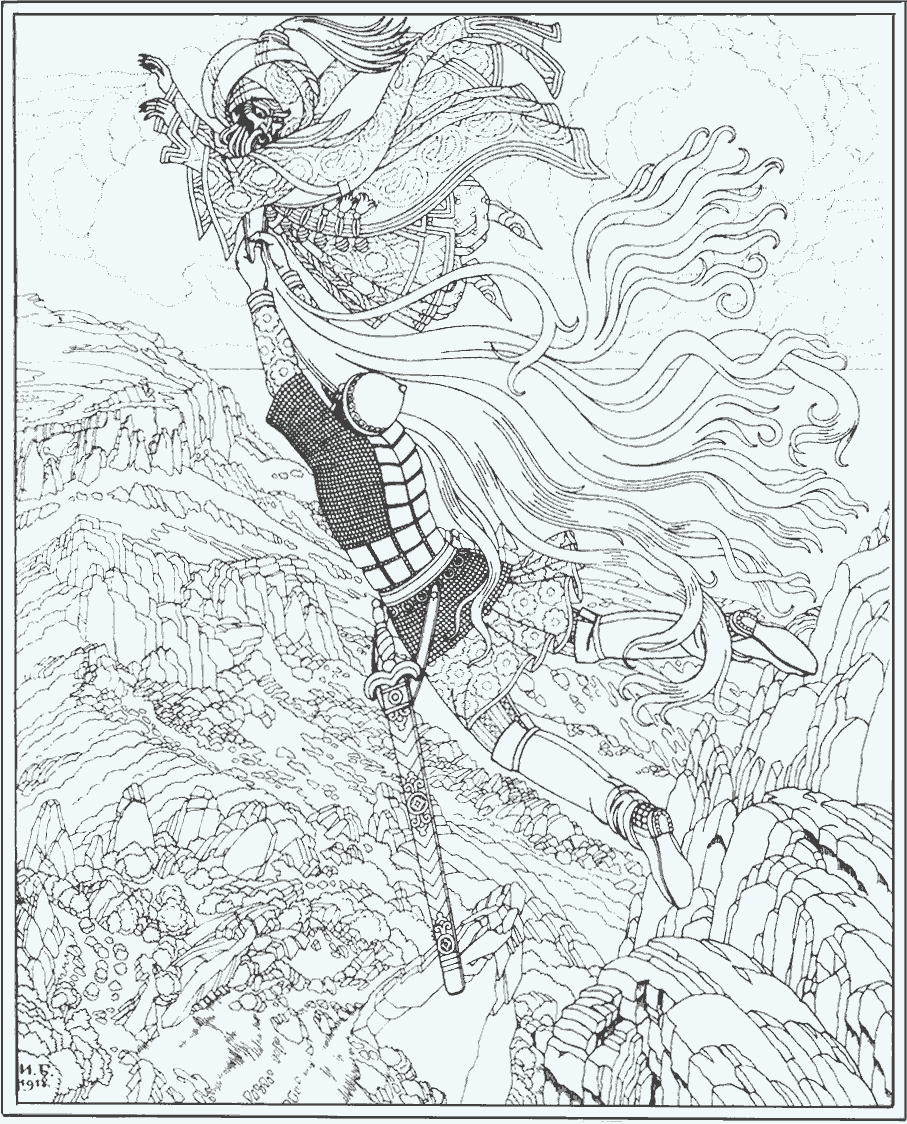
Ту же подпись видим в «Пощёчине общественному вкусу» (1912), где футуристы призывают сбросить Пушкина с „Парохода современности”. Хлебников не возражал, когда его соратники заявляли, что в пятистишии А. Кручёных «Дыр бул щыл...» „больше русского национального, чем во всей поэзии Пушкина”.2![]()
Семантический метод Хлебникова, как справедливо замечает Н.Л. Степанов, сродни ломоносовскому.4![]()
И всё же имена Пушкина и Хлебникова не ставились бы рядом так настойчиво, не будь на то причины. Сам Хлебников, отрицая Пушкина, был глубже и серьёзнее своих литературных попутчиков: обосновать свою позицию он полагал нужным едва ли не всегда. „Главным героем” Хлебникова действительно был язык — и он ставил задачу раскрепощения этого языка. А ведь имя Пушкина было синонимом свободы поэтического выражения. Следовательно, Хлебников так не считал. Со свойственным ему наивным красноречием и небрежной категоричностью он заявляет:
Хлебников в своих суждениях о Пушкине гораздо более поэт, чем теоретик, он весьма далёк от научной объективности и выражается всегда приподнято. Таков он и в погромных декларациях, и в стихах, где отрицает Пушкина. Стихи эти неизменно властны, торжественны, победны — и при этом чрезвычайно привлекательны смелостью словесной живописи, фантастичностью метафор:
Контекст строки Пушкин нам жалок вызывающе циничен, поэтому воспринимать её в прямом смысле, думается, не следует. Это экспрессивное междометие дерзкого, доходящего до всеотрицания скепсиса и словесного эксперимента, без которого поэзии Хлебникова не существует.
Важно отметить, что и у вдумчивых современников (М. Кузмин5![]()
![]()
Ограничься Хлебников подобного рода цитированием, заявленная нами тема уже не показалась бы надуманной. Однако и в своих изысканиях числовых закономерностей (закон времени) поэт не раз обращался к биографии „солнца русской поэзии”. К сожалению, рукопись (исследование в числах?), условно озаглавленная составителями пятитомного Собрания произведений Хлебникова «Пушкин», бесследно исчезла (V, 340. Комментарий). В декабре 1914 г. в письме М.В. Матюшину Хлебников признаётся:
Делается это с помощью чисел и формул, подтягивая до которых пушкинские произведения, Хлебников неизбежно схематизирует и упрощает их. Евгений Онегин, изнеженный образ барина, отравленного западом, противопоставлен «Кавказскому пленнику» по очень условному, если не произвольному признаку:
Но в таких прямолинейных суждениях открывается одна из самых сильных сторон поэтического дара Хлебникова: свежесть, новизна, необычность восприятия, метафорическое зрение. Обращаясь, например, к «Полтаве» Пушкина, Хлебников самой подачей мысли создаёт поэзию: возникает угловатая, громоздкая, косноязычная метафора, через которую проглядывает возможность новой «Полтавы», мало чем похожей на поэму Пушкина:
Особенности поэтики Хлебникова, его свежий взгляд на литературные факты раскрываются именно через такие, далеко не “научные” оценки и определения. Цель своих пушкиноведческих штудий Хлебников объяснил в автобиографической повести 1916 года «Ка2» (другое название — «Скуфья скифа»):
Жизнь и творчество Пушкина, полагал Хлебников, способствуют открытию неких абсолютных законов времени. Оставив неизбежные сомнения на сей счёт, обратимся к очевидному факту: занятия числами позволили Хлебникову вплотную подойти к наследию Пушкина и переосмыслить его. Судьба и личность поэта стали ему близки до такой степени, что он отказывается различать убийц Пушкина и своих гонителей:
Да и не было столь уж бесплодным его составление формул событий и противособытий. В стихотворении «На родине красивой смерти Машуке...» сопряжение судеб великих поэтов убедительно, как наглядное пособие на уроке физики:
Пушкинскому творчеству Хлебников не чужд и в своих языковедческих работах. В статье 1916 г. «Второй язык», например, объектом изучения оказывается «Пир во время чумы». Даже полагая хлебниковский число-звуковой “закон” этого произведения ложным, нельзя не признать, что выводы из него произвольными или натянутыми не кажутся:
Через восприятие «Пира во время чумы» открывается одна из глубинных основ Хлебникова-поэта — его жизнелюбие. Вот что он пишет М.В. Матюшину 18 июня 1913 года, после смерти Елены Гуро:
С «Пиром во время чумы» косвенно связан сюжет поэмы «Гибель Атлантиды» (1910–1912 гг.), хотя говорить о прямых реминисценциях едва ли правомерно. Речь может идти, пожалуй, лишь о том, что Хлебников, доходя до гротескных обобщений трагической противоречивости жизни человека, привлёк и пушкинские мотивы.
Зато в очень важных для Хлебникова размышлениях о взаимопостроении русской культуры Востоком и Западом поэт прямо обращался к пушкинскому материалу. Пушкинские образы, сюжетные ходы, темы и целые произведения он рассматривал как готовый комплекс идей, всем хорошо известный и понятный — следовательно, годный к употреблению без дополнительных пояснений ради экономии слова и концентрации мысли. Хлебников мечтал не только о расширении пределов русской словесности (название статьи 1913 г.), он хотел воссоздать древнее сознание и язык, на котором заговорит Русская библия. Некоторые “главы” её, по мнению Хлебникова, уже налицо. Таковыми он считал поэмы «Руслан и Людмила» и «Полтава» (Неизданное. С. 341). Едва ли не все поэмы Хлебникова 10-х гг. — бурлескные, причём с изрядной долей мифологии — были, скорее всего, попыткой восполнить недостающее. Некоторые сюжетные ходы (волшебные превращения, женихи княжны) и само имя героини (Людмила) дают право говорить о родстве — пусть и отдалённом — поэм «Внучка Малуши» и «Руслан и Людмила». Перед нами свежее решение опробованной “литературной” темы: поэт воссоздаёт древнеславянскую мифологию с азиатской подоплёкой (жених Людмилы — хазарский хан).
Апология азийского начала в древнерусской и общечеловеческой культурах объясняет весьма необычное упоминание Пушкина в «Детях Выдры». Это сложное художественное целое, созданное по методу монтажа: объединены стихи и прозаические отрывки. Здесь, как замечает Н.Л. Степанов,
В этом грандиозном по замыслу произведении одна из глав (5-й парус) включает вариант мифа о Прометее. Разумеется, вариант самого Хлебникова: Прометеем оказывается Утёс, заговоривший после того как Сын Выдры вырезает на нём своё имя: „Велимир Хлебников”. Дети Выдры узнают о судьбе Прометея из монолога Утёса, и Дочь Выдры освобождает страдальца. Сообщено об этом в авторской ремарке:
Автор отсылает читателя к общеизвестному литературному материалу — поэме «Кавказский пленник». В ней, по определению Хлебникова, передано дыхание дикого востока в первобытном быту горцев, суровой воли и дикой силы (V, 272). Древнее сказание племени орочей (Дальний Восток) и миф о Прометее (Запад) слиты Хлебниковым воедино, и поэтическим оправданием этого служит пушкинская поэма.
Восточные интересы Хлебникова проявились и в изучении древнеегипетской мифологии. Он предлагает своё переосмысление «Египетских ночей» Пушкина, имеющее заметно восточную окраску.
Около 1915–1916 гг. Хлебников работал над автобиографическими повестями в прозе «Ка», «Ка2», близкими тематически и по форме.
Хлебниковское созвучие «Египетским ночам» отнюдь не сюжетная или тематическая параллель: «Ка» — повесть о перевоплощениях души. Это путешествие по странам и эпохам, границы между которыми отсутствуют или свободно сдвигаются. Явной переклички с «Египетскими ночами» здесь нет. Есть родство замысла: в обоих случаях сопоставляются человеческие характеры и судьбы в условиях чуждых одна другой цивилизаций. У Хлебникова нет контрастного противопоставления метели севера нильскому зною, его задача показать их тяготение одной к другому сквозь тысячелетия. Перед Пушкиным в «Египетских ночах» стояла прямо противоположная цель: предельно контрастное сопоставление. Так что созвучие Пушкину у Хлебникова гораздо более противоположность, нежели параллель.
«Ка» с «Ка2» (1916) связывает мысль о взаимосвязи отдалённых друг от друга эпох и цивилизаций, но вторая повесть отчетливо автобиографична. Именно здесь Хлебников обмолвился, что иногда неплохо быть пушкинианцем (V, 134). «Ка2» изысканно, усложненно метафорична, как и вся проза Хлебникова, по определению О.Э. Мандельштама, „девственная и невразумительная ‹...› как рассказ ребёнка, от наплыва образов и понятий, вытесняющих друг друга из сознания”. События личной жизни Хлебникова-пушкинианца на наших глазах обрастают такими фантастическими подробностями, что каждая из них превращается в пестрящий деталями современного быта, исполненный иронии миф. Один из эпизодов — рассказ о встрече с памятником Пушкину, одновременно шутливый и многозначительный:
Дальше с памятником происходят как бы сами собой странные метаморфозы, неожиданные, но для автора естественные, ибо о них он пишет без тени удивления и никак не мотивируя. Затем всплывают образы и сюжетные ходы из «Руслана и Людмилы»:
Перед нами пушкинский материал, применённый на этот раз к себе и к городской жизни военного 1916 года. Жизнь современного города и одиночество поэта, отрицающего городскую цивилизацию, сшибка потока его сознания с какими угодно людьми и всевозможными вещами — всё это таинственным образом связалось и с памятником Пушкину, и с пушкинианством автора, и с образным материалом «Руслана и Людмилы»: голова, колючая борода в железной руке, сад Людмилы. Рождается некий вторичный, усложнённый миф о жизни современного поэта с произвольным включением пушкинских образов и погружением поэта в „преданья старины глубокой”, поэтически переработанные Пушкиным. Хлебников, помещая себя и приметы современности в поэму Пушкина, дышит её художественной атмосферой, как если бы она была его собственной поэмой.
Чтобы понять и принять такое весьма необычное обращение с именами деятелей прошлого и классическим наследием, следует учитывать одну особенность художественной системы Хлебникова, отмеченную исследователями:
Появление имени Пушкина, его персонажей, топонимов и т.п. у Хлебникова часто оправдано не логикой, не внутренним смыслом, а именно этим приёмом. Это не говорит о поверхностном отношении поэта к имени Пушкина, а лишь о том, что встреча с ним у Хлебникова происходит на почве поэтического образа, поэтического языка, на основе формы и не отменяет серьёзности, злободневности, весомости содержания стихов „поэта идеи”, „философствующего поэта”.10![]()
На основе поэтической этимологии встречается имя Пушкина и во многих антивоенных стихах и эпических циклах Хлебникова. Чаще всего здесь оно является синонимом трагической смерти. В стихотворении «Тверской» бронзовый памятник Пушкину и имя трагически погибшего поэта объединяются в парадоксальных сопоставлениях, испытывая странные метаморфозы:
Поэт, убитый свинцом, превращён в свинцовый памятник, свинцом убивают пулемёты. Хлебников не принимает войну с её бессмысленным убийством ещё и потому, что она — порождение техницизма, владычества машин над человеком. Так в прозаическом отрывке «Перед войной» описывается движение по городу чудовища-машины, везущей на фронт призывников. Снова — как повод для развития сложнейшей метафоры — появляется имя Пушкина:
Но фантастичность и явная произвольность образов и событий так неожиданны, что автор наивно пытается их оправдать, мотивировать — хотя бы внешне. Оправдание получается столь же фантастичным и произвольным, как и оправдываемое: Сумасшедший арап, не найденный в песнях Пушкина. Мотивировка эта — почти пародия на пушкинистов.
Ту же причудливую историю о сумасшедшем арапе, чудовище, Хлебников воспроизводит и в стихах (черновики 1919–1921 гг.):
Война — убийство всего живого, и — прежде всего — поэзии, песен. В эпическом цикле «Зангези» (Плоскость XVIII) образный материал близок стихотворению «Тверской»: памятник Пушкину становится соучастником антивоенных пророчеств поэта Хлебникова:
Своеобразные, но очень отдалённые или произвольные сближения понятий (Пушкин — Эн отрубил — пушки) кажутся наивными, нелепыми, или неумелой шуткой, неловкой игрой. Такой мнимо игровой подход к пушкинскому наследию у Хлебникова встречается нередко. Это очень интересная особенность его пушкинианства. В поэме (или эпическом цикле) «Азы из узы» находим:
О синонимическом начале у Хлебникова Б.А. Ларин пишет:
В рассмотренном случае „неологистическим образованием” произведение Пушкина оказывается не только благодаря названию, но и всей цепью понятий, с ним связанных. «Египетские ночи», греческое и странное руно, та и холодное вино почти слились в один поэтический образ.
Синонимический принцип организует и такие стихи:
Синонимические варианты здесь так спаяны, что строка О пушкиноты млеющего полдня! не только равнозначна поэтической одухотворенности самой природы (полдень, ночь, туча), но и, намекая на противоположность Пушкина Тютчеву (полдень — ночь), сочетает эти имена с именем Достоевского. Неологизм пронизан глубокой мыслью, создает её поэзию. Им же достигается и максимальная экономия слова-образа.
Синонимический принцип композиции у Хлебникова создает новую метафору, которая не только сближает вещи и понятия, открывая их странное, причудливое сходство, но и частично уравнивает их, устраивает их встречу на пути сближения, — до единства, слияния. Вот стихи, где поэт повелевает себе отвергнуть предрассудки, условности быта и возвыситься до “божественных”, поэтических высот:
У Хлебникова, как заметил Р. Якобсон, „сравнения — руки”, они „являются композиционными заданиями”.12![]()
Одно из самых поэтичных и блестящих по форме стихотворений Хлебникова (напечатано в 1913 г.) «Люди, когда они любят...», построено по характерному принципу сопоставления, параллели, с повторяющимися элементами:
При этом сближения у Хлебникова могут быть так произвольны и неожиданны, что первоначально вызывают недоумение и протест, как это часто бывает с поэтическими неологизмами:
Р. Якобсон считает, что Хлебников часто строит стихи не только как цепь синонимов: организующей основой у него бывают и омонимы.14![]()
![]()
Таким вот пушкинианцем бывал иногда Хлебников. Рассмотренный выше материал не позволяет определить отношение Хлебникова к Пушкину как освоение традиции в поэзии. Внешне это антипушкинизм — необычный, яркий, демонстративный.
Главное в этом антипушкинизме — включение в свой поэтический контекст художественного материала и самого имени Пушкина. Всё это становится явлением современности, насущным, с точки зрения автора, материалом. Игровая форма такого осмысления отнюдь не исключает авторской серьёзности и при должном внимании обнажает самые потаённые грани поэтики Хлебникова.
Но выше показаны примеры того, что антипушкинизм Хлебникова весьма относителен. Пушкина он всегда считал великим поэтом, и однажды высказался о том, какого рода намёками связана душа Пушкина с его, Хлебникова, поэзией. В черновиках незаконченной поэмы «Олег Трупов» (1915–16 гг.) после строфы, где речь идёт о непохожести главного героя на общий люд, читаем:
Поэт, король времени, говорит о своём родстве с душой Пушкина с торжественной серьёзностью. Памятуя об этом, мы отказываемся видеть в причудливых образах Хлебникова, где он вольно обращается с именем Пушкина, только забавную игру ума и фантазии.
| Передвижная Выставка современного изобразительного искусства им. В.В. Каменского | ||
| карта сайта | 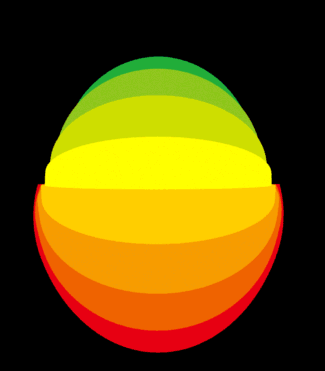 | главная страница |
| исследования | свидетельства | |
| сказания | устав | |
| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||