

 утурист-заумник Алексей Кручёных, обнародовав свои «Фактуру слова», «Сдвигологию русского стиха» и «Апокалипсис в русской литературе», повторил рекорды Виктора Шкловского, выпустив одновременно тремя разными изданиями по существу одну и ту же книжку. Повторяя в основном друг друга, они разнятся лишь относительной толщиной двух последних из указанных работ в сравнении с «Фактурой слова», толщиной, зависящей от ненужной перепечатки некоторых мест внутри даже отдельной работы и в гораздо меньшей степени от небольших вариаций самого текста.
утурист-заумник Алексей Кручёных, обнародовав свои «Фактуру слова», «Сдвигологию русского стиха» и «Апокалипсис в русской литературе», повторил рекорды Виктора Шкловского, выпустив одновременно тремя разными изданиями по существу одну и ту же книжку. Повторяя в основном друг друга, они разнятся лишь относительной толщиной двух последних из указанных работ в сравнении с «Фактурой слова», толщиной, зависящей от ненужной перепечатки некоторых мест внутри даже отдельной работы и в гораздо меньшей степени от небольших вариаций самого текста.
Невежественность Кручёныха в вопросах языка общеизвестна: и какая-либо полемика с ним по существу вряд ли нужна. Однако, эти книжки, изданные в серии “теории” МАФа (Московская Ассоциация футуристов) могут рассматриваться и как официальные декларативные выступления наших футуристов.
Лет десять–двенадцать тому назад футуристами был брошен решительный вызов вековой литературе, и тогдашние их декларации естественно могли привлечь к себе внимание всех уставших от бесконечной добролюбовщины и писаревщины второй половины девятнадцатого века в России. А совсем недавно людогусь Маяковский оповещал уже в газетной статье о замечательных достиженьях русского футуризма „в теоретическом отношении” и сообщал, что неожиданным даже для Европы открытием некоего конструктивизма, нового вида „производства из всякого хлама драгоценнейших вещей”, наши футуристы наносят сокрушительный удар всем больным вопросам и проблемам культуры. Правда, у самого Маяковского была одна существенная оговорка. А именно, та, что людогуси отличаются весьма поверхностным взглядом на вещи, но даже с большим удовольствием считаясь со столь искренним признанием, мы не делаем, как будто, ошибки, желая разобраться в действительных итогах “отечественных” достижений (Кручёных считает себя значительно национальнее Пушкина) в области наиболее существенных теоретических проблем культуры слова и мысли.
В силу издания МАФом в серии теории лишь работ Кручёныха ограничиваем поле анализа лишь ими. Считаясь же с невежественностью автора и мало интересуясь его лирическими излияниями (главы: «Чёрт и речетворцы», в большей части — «Тайные пороки академиков» и т.п.), сосредоточиваем наше внимание лишь на основных вопросах, постоянных коньках зудесника Алексея Кручёныха.
Такими нам представляются: I) “заумный язык”, 2) “сдвигология”.
Не имея в виду диссертации, разрешаем себе пользоваться фрагментарной формою в изложении своих замечаний.
I. ЗАУМНЫЙ ЯЗЫК. В первом номере настоящего журнала в статье «Вырождение слова» М. Кенигсберг уже дал достаточный, в общем, анализ положений “заумников”, в частности, Хлебникова, и вполне верно формулировал деятельность последнего, как ошибку экспериментатора. На абсурдность терминов „заумный язык, заумная речь” — указывалось и ранее. Вполне элементарно, конечно, в этом термине вскрывается грубое противоречие, поскольку к сущности понятия “язык” относится то, что он должен быть выражением значений, и поскольку, следовательно, формы языка корелятивны модусам сознания.
Говорить о заумности языка совершенно то же, что утверждать неодушевлённость человека или сыпучесть воды. Замечу, кстати, что только фантазия может видеть в Хлебникове “заумника”. Несмотря на все чудачества, счастливое чутьё словесника возобладало в нём, и, стремясь к неожиданным неологизмам, он тотчас же давал к ним необходимый перевод в рамках традиционного русского словаря. Не таков — до известной степени, ученик Хлебникова — Кручёных. Он много бесталаннее и, что ещё хуже, упрямее своего вдохновителя. И, как маньяк, продолжает он твердить явную бессмыслицу, наивно веря в истинность своих произвольных мнений о бессмысленности языка вообще и языка поэтов в частности. Позволим себе, однако, в целях дальнейшего сопоставления, несколько выдержек из самого Кручёныха.
Из «Декларации заумного слова»:
Существенно ещё одно утверждение автора «Фактуры слова»: „заумный язык ‹...› воспринимается легче, почти без мысли (хотя для новичков и враждебно настроенных может оказаться и труднее обычного)”.
Итак, одновременно заумь „свободна от конкретного смысла, она бессмысленна и лишь не имеет определённого значения, или даже просто имеет, но в форме намека и не для новичков вполне понятна” (?!) (простая метафора — четыреугольная душа — сочтена за бессмыслие и отнесена к области заумного). И совсем непонятно, каким образом, относятся к сущности языка как такого заиканье, ляпсусы, опечатки? Нужно действительно “потерять рассудок”, чтобы сказать подобную белиберду. Существенна, конечно, для Кручёныха ссылка на детский лепет. Р. Якобсон (Новейшая русская поэзия. Набросок первый. Хлебников) со свойственным ему талантом также стремится обосновать теорию заумного языка на детском лепете и считалках. Но, конечно, и здесь большое недоразумение, так как языка мы в данном случае не имеем. Имеются же лишь те или другие звуковые вещи. И только. Рассматривать их как выражение значений мы не можем, а иначе они — не язык. Если же в отдельном случае у ребёнка наличествует понимание произносимых им комплексов звуков, то это уже не лепет, и причем тогда здесь заумность.*![]()
Но вернёмся к Кручёныху. Для него (как и для А.И. Терентьева) всякий действительный поэт всё же есть поэт “заумный” и мастерство поэта, по его мнению, означает „думать ухом, а не головой...” Это не мешает ему, однако, давать своим стихотворениям заглавия на обыкновенном русском языке и пользоваться последним, подобно Хлебникову, как переводом для своих неологизмов. „Чередованье обычного и заумного языка” («Сдвигология» стр. 34) им приемлется и утверждается. К чему же тогда всё остальное словоблудие? И какая, в конце концов, беспомощность!
Как пример отчётливого противоречия в положениях о заумном языке у Кручёныха, приведу ещё одно место из «Декларации слова, как такового»:
II. Несколько слов ещё но поводу «Сдвигологии». И здесь основное остаётся непонятным.
Где, прежде всего, точное определение самого сдвига. Слияние двух звуков или двух слов, как звуковых единиц, в одно звуковое пятно, — говорит Кручёных — назовем звуковым сдвигом. Пример: „Узрюли русской Терпсихоры ‹...›”; „Незримый хранитель могу чемудан”. “Чемодан”, по Кручёныху, сдвиг, в то время как “могу” в приведённом контексте слом.
Не то, однако, сдвиг в синтаксисе. Сюда Кручёных относит такие случаи как:
Оказывается, „что заумный язык всегда (?) сдвиговый язык; что сдвиг вообще — одна из важнейших частей стиха; сдвиг — стиль современности; сдвиг — вновь открытая Америка”.
Ну что ж! Если принять обе ‹пропуск в тексте› Кручёныха, то вывод только один: самые бездарные и безголосые поэты (поэты ли всё ж?) — именно заумники. Это очень искренняя и верная оценка самого себя, хотя и достигнутая неправильным путём.
| Персональная страница Г.А. Левинтона на ka2.ru | ||
| карта сайта | 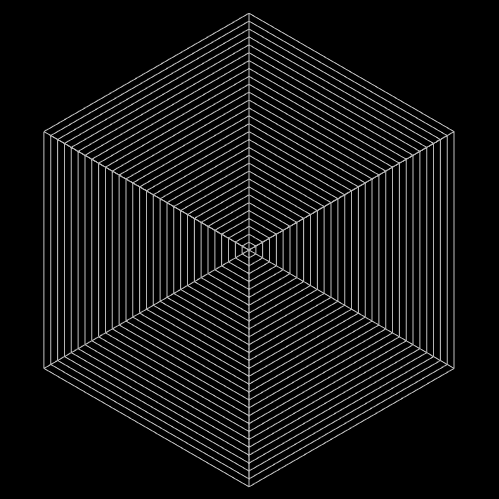 | главная страница |
| исследования | свидетельства | |
| сказания | устав | |
| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||