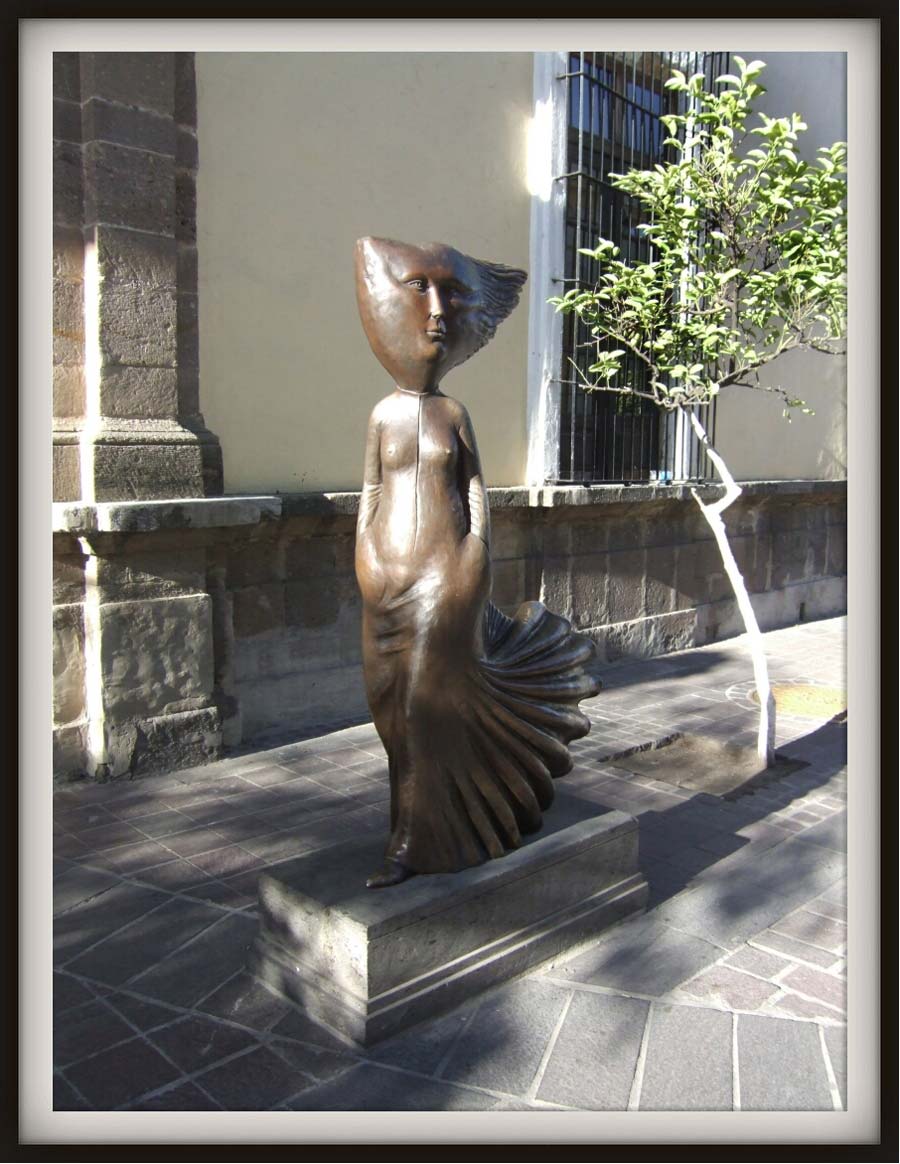
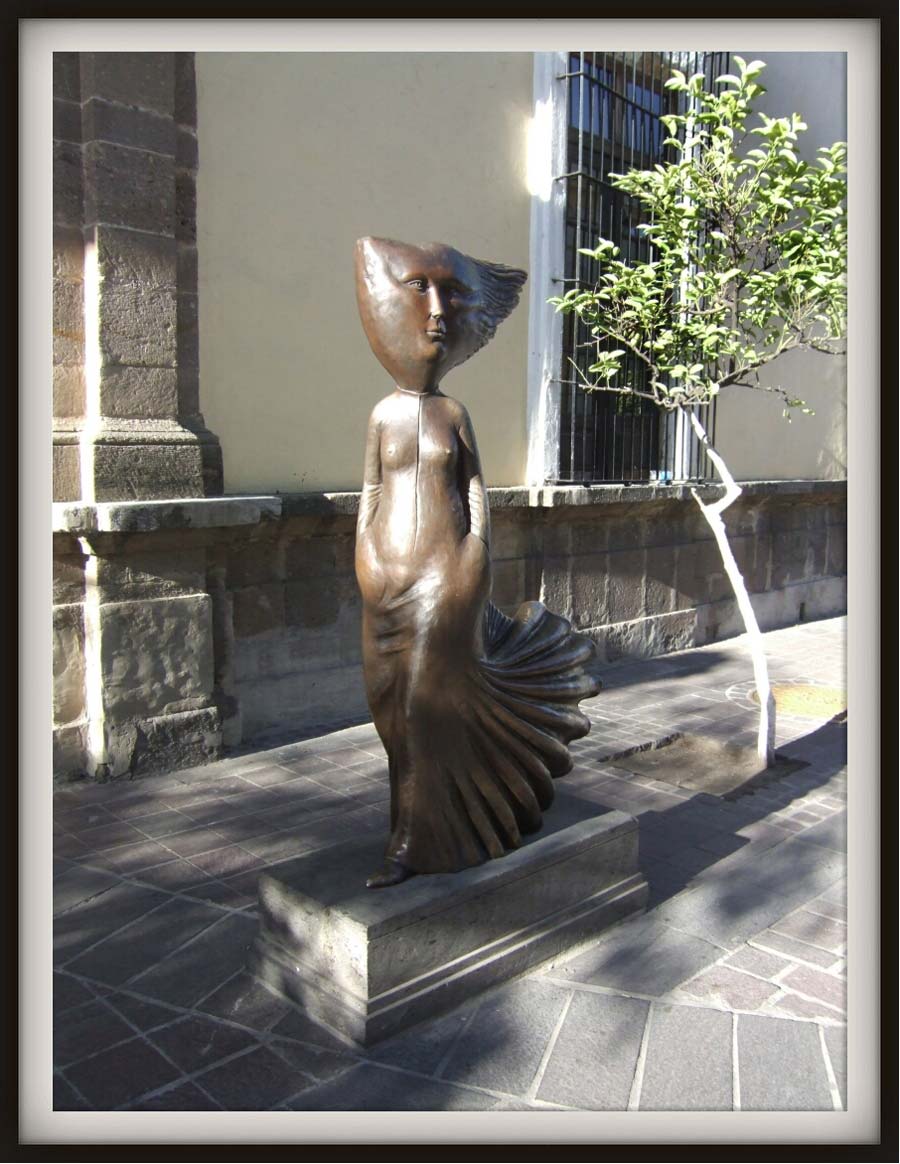
19-го июля 1922 г., Астрахань
Вы говорите, Он ушёл, мой тихий Брат?..
Я знаю, что у Виктора Владимировича были искренние, любящие, преданные ему друзья... Хочется думать, что им я буду говорить о брате и друге, чутком и нежном с теми, кого он любил и, скинув напускное равнодушие и сверхчеловеческое безразличие к окружающим, — открывал свою душу. Как Сакия-Муни, отказавшись от земных почестей для достижения духа, — шёл он по земле. Мыслитель и поэт, мне кажется, раздваиваются. Он был великим наблюдателем, от него, на вид равнодушного и безразличного ко всему окружающему, ничто не ускользало: никакой звук бытия, никакой духовный излом. Так он шёл по жизни, так он шёл по лесу, с таким отрешившимся видом, что даже птицы переставали его бояться, доверчиво посвящая в свои тайны.
Он был эстетом — слишком эстетом: преступления как такового, мне кажется, для него не было, не было душевных недостатков (как их принято понимать), его мерилом, его судьёй была красота...
Если б он был королём (по человеческой власти), он мог бы, поразившись каким-нибудь детским личиком, может, просто выражением глаз или изгибом бровей, — сняв с себя драгоценную корону, надеть её на голову ребёнка и, прошептав смущённо: „возьми, это тебе совсем” — с безразличным, скучающим видом идти дальше. Он мог бросить свою королевскую мантию к ногам жнущей рожь красавицы и навсегда пройти мимо. Он мог, вдруг растрогавшись, отдать её дряхлой изнурённой старухе, но так, чтобы не заметили...
Он мог каким-то внутренним взлётом подарить, как безделушку, своё королевство. И когда бы спросили, где оно, он бы устало зевнул, сказав „ах, как всё это скучно”, и погрузился бы в свой мир.
Его мозг был требовательным и ненасытным, и был хозяином... И душа лишь порывами вырывалась от его засилья.
Его многие считали эгоистом и бессердечным...
Он же был ребёнком навсегда, то упрямым и капризным, то кротким и тихим.
А люди требовали от него, как от взрослого, и он ушёл.
А мне всё кажется, что мы с ним ещё будем, как он мечтал с Кавказа, вместе рвать кисти синих ягод и подкрадываться к заснувшим черепахам. Что ещё нам надо? — добавляет он в своём письме.
Ввиду сложившейся особенно трагично семейной жизни родителей Виктора Владимировича, мне пришлось скрыть от них ужасное известие, и потому я могу сообщить пока, что знаю сама.
Виктор Владимирович родился в Калмыцкой степи (где отец его был попечителем калмыцкого округа) 28 октября (год рождения, не знаю верно ли, обозначен в «Известиях»).
Я как младшая из пяти детей ничего не знаю о его первых годах (а шуточные рассказы родителей повторять сейчас у меня нет сил, может, мне это удастся сделать впоследствии). Витя был красивым, кротким, рассудительным, но с полётами большого упрямства ребёнком. Отец его, “естественник”, желал видеть на том же пути своих сыновей, и с тех пор, как я начинаю помнить, они всегда возились с гнёздами, яйцами, зверьками, бабочками...
После Калмыцкой степи семья жила по службе отца в Волынской губернии, в Подлужном (бывшее имение князей Чарторыйских). Там было приволье: река Горынь, чудный парк, запущенные цветники, всевозможные развалины... Это заставляло работать детское воображение, и Витя упорно утверждал изумлённым братьям, что у него своё королевство и каждый день за ним прилетает белый лебедь.
Затем переезд в село Помаево Симбирской губернии. Постоянное общение с детства с природой не могло не оказать влияния на его дарование. Вам знакома одна из его первых вещей «Снежимочка» — эта сказка русской зимы?
Из села Помаева Витю повезли в Симбирск в гимназию... Мама говорит, что он сильно тосковал по дому и тяготился гимназической обстановкой и товарищами, он, застенчивый и нежный, как девочка.
Затем семья переехала в Казань, опять гимназия, скучные уроки и интересные книги — приходилось уроков не учить дома, а кое-как просматривать учебники в перемены. Но благодаря своей памяти он считался хорошим учеником: особенно его выделяла математика, которой он увлекался, и русская словесность. Таким образом, он был в гимназии на хорошем счету и часто ставился в пример. И я помню очень хорошо, что товарищи его в Казани, всегда стоявшие во всех отношениях ниже его, эксплуатировали его всячески, начиная с его знаний и способностей — кончая продажей букинистам книг нашей семейной библиотеки. Может, искали они его дружбы, желая сами казаться лучше около светлого мальчика, каким он был.
Так было в гимназии, так было и после.
И может, в этом было то роковое, что, пройдя через его жизнь, — преждевременно погасило её.
Помню, радостный поступал он в университет. Все с любопытством смотрели на этого голубоглазого мальчика в новеньком студенческом костюмчике. Но так было лишь в начале: лекции его не удовлетворяли, он стал манкировать, предпочитая книги. Затем, верно около 1905 года, стал увлекаться политикой, затем революционным движением.
Помню, он как-то запер свою комнату на крюк и торжественно вынул из-под кровати жандармское пальто и шашку: так, по его словам, он должен был перерядиться с товарищами, чтоб остановить какую-то почту, затем это было отложено. И однажды он с моей детской помощью зашил всё это в свой тюфяк подальше от взора родных!
Писать он, верно, начал в последних классах гимназии.
Я смутно помню, что как-то, взяв меня таинственно за руку, он увёл в свою комнату и показал рукопись, исписанную его бисерным почерком, внизу стояла крупная подпись красным карандашом “Горький”, и многие места были подчёркнуты и перечёркнуты красным. Витя объяснил, что он посылал свое сочинение Горькому и тот вернул со своими заметками, насколько помню — одобрил, так как вид у Вити был гордый и радостный.
В университет же он ходил всё менее охотно и, наконец, стал порываться уехать в Москву.
Дома противились, боясь, что он слишком не подготовлен для самостоятельной жизни, и, может быть, были правы. Отказали наотрез.
Витя посвятил меня в своё горе, и я, ничего не понимая, кроме горя большого друга, — торжественно принесла ему своё сокровище — золотую цепочку; он продал её где-то и уехал. Сейчас я жалею, что, может, невпопад была великодушна. Это был его первый вылет из дому.
Отец, который не отказывал ему ни в чём, чтобы дать всестороннее образование, был, конечно, против его слишком сильных литературных увлечений, оторвавших его от университетских занятий, и это стало тем роковым, что разделило их в дальнейшей жизни, — их, по-своему любивших друг друга, и создало внешнюю враждебность, непонимание и в результате тягостные столкновения.
Мечта отца была, чтобы он выдвинулся как математик или естествоиспытатель.
И вот конец всем распрям и мечтам.
Дома он стал бывать наездами.
Привыкнув делиться со мной своими радостями и горестями, о жизни в Петрограде, где он большую часть жил, он не любил говорить. Только иногда рассказывал с насмешливым добродушием, как его эксплуатируют на разные лады некоторые из его „друзей-учеников”.
Как то: два брата Бурлюки, Кручёных... ещё кто-то.
Но он был незлоблив.
Этого последнего сообщения я прошу не выключать: заглянем в глаза истине.
Его необыкновенная память, любовь и знание истории перешло к нему от матери; кроме того, она старалась развить в нём любовь к красивому. И в степи традиционной их детской прогулкой было идти смотреть закат.
У Виктора Владимировича были большие способности к рисованию, но, увлекаясь вначале и серьёзно занимаясь с молодыми художниками (по желанию отца), он впоследствии забросил его, только лишь всегда живо интересуясь искусством и всегда стоя на его страже. Так дома он один лишь продолжал интересоваться и по мере сил оберегать мою живопись с тех пор, как она стала чужда обывательскому глазу.
О жизни его в Петрограде – Харькове – Кавказе – Персии – Москве могут сообщить его товарищи... которые должны знать более, чем я.
К сожалению, я могу дать сейчас только такие поверхностные для статьи сведения — так как в голове у меня туман и безграничная усталость.
Ещё я убедительно прошу... я требую!
Так как при жизни Виктор Владимирович не имел никакой материальной корысти от своих произведений, ни даже необходимой поддержки, то я прошу, чтобы от возможных сумм издания никому не было бы личных доходов.
Моё желание, чтобы эти возможные от издания суммы были предоставлены его другу П.В. Митуричу и употреблены по его личному усмотрению.
Так, во-первых, весьма возможно, что материально стеснённый сам, он израсходовал своё последнее во время болезни Виктора Владимировича. Затем может быть основана в Санталове стипендия имени Виктора Владимировича, и т. Митурич, думаю, не откажется засыпать могилу поэта цветами, которые он так любил.
Вот всё.
Вера Хлебникова
Спасибо тем, кто его любил.
| Передвижная Выставка современного изобразительного искусства им. В.В. Каменского | ||
| карта сайта | 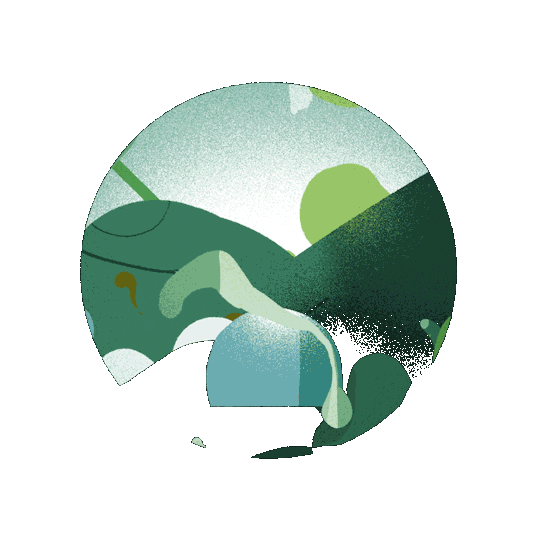 | главная страница |
| исследования | свидетельства | |
| сказания | устав | |
| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||