Мария Никифоровна Бурлюк
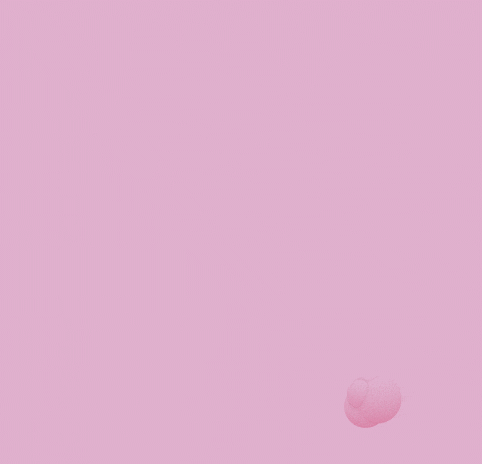
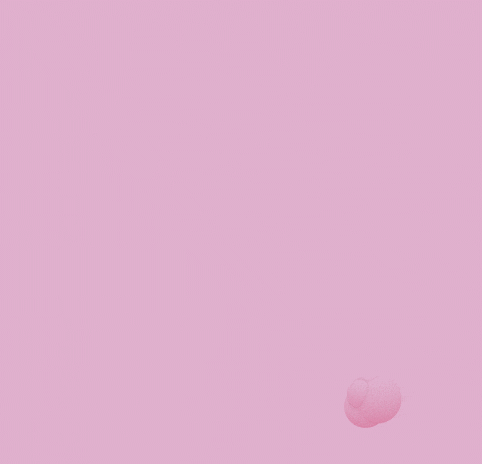
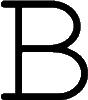 ечер: падает февральский снег, он обязательно распылится за ночь в метель, раздуваемую ветром с серого Балтийского моря. В памятный вечер заседание было посвящено вопросам печатавшейся книги «Первый Садок судей». Хотели выпустить в свет такую, чтобы и внешностью книжка не напоминала обычные, поэтому решено было печатать «Садок» на обоях. В типографии эта прихоть вызвала много ругани, так как машину пришлось мыть: мел обоев забивал буквы. Книга вышла в количестве 480 экземпляров и, не выкупленная, валялась в типографии несколько лет, пока куда-то бесследно не исчезла,2
ечер: падает февральский снег, он обязательно распылится за ночь в метель, раздуваемую ветром с серого Балтийского моря. В памятный вечер заседание было посвящено вопросам печатавшейся книги «Первый Садок судей». Хотели выпустить в свет такую, чтобы и внешностью книжка не напоминала обычные, поэтому решено было печатать «Садок» на обоях. В типографии эта прихоть вызвала много ругани, так как машину пришлось мыть: мел обоев забивал буквы. Книга вышла в количестве 480 экземпляров и, не выкупленная, валялась в типографии несколько лет, пока куда-то бесследно не исчезла,2Гуро была некрасивой, маленького роста худенькой женщиной: её стриженые волосы жирными прядями облипали череп, на бледном лице Елены Генриховны вдохновенно горели, выдавая недуг чахотки, глаза. Одетая в батистовую канареечного цвета кофту, в юбку коричневую, легко ступала она по комнате, тёрла покрасневшие от холода руки, говорила тихим голосом, и, как от всех людей слабого здоровья, при малейшей усталости от неё начинало пахнуть едким дуновением пота.
В памятный вечер с Волкова кладбища достали и Витю Хлебникова: за урок дочкам какого-то купца получал комнату и стол. Как сейчас помню, Хлебников был в студенческой тужурке, его тёмные волосы были зачёсаны на косой пробор над высоким лбом, который казался особо белым от контраста с соседством румянца на щеках, наведённого февральским морозом. Хлебников производил впечатление жизненного юноши, обладавшего красивой наружностью. Хлебников, видимо, конфузился от присутствия в комнате нескольких юных девушек, устремивших на него свои любопытные глаза. А вот позже...
В 1912 году, в солнечный октябрьский день, по Тверскому бульвару летят листья, коричневые от кратковременного отдыха в пыли, — Вася Каменский, у которого дрожит рука, когда он в «Толстовской столовой» в Газетном переулке берёт протянутую чашку чая. Вася Каменский только что выписался из Киевского госпиталя, где он залечивал свои переломы после неудачного полёта в городе Ченстохове тогдашнего Царства Польского. После выпуска «Садка судей», в котором он, как наиболее опытный в то время поэт, побывавший даже редактором Шебуевского журнала «Весна», занимал руководящее положение, был вожаком медведя, Василий Васильевич Каменский до описываемого ныне своего появления в Москве пропал с литературного горизонта. Вася Каменский увлёкся авиацией. Раздобыл деньжат, скомбинировал поездку в Париж и Лондон, где и получил авиаторский диплом. На своём сборнике «Танго с коровами», который он выпустил при помощи Давида Бурлюка, Вася Каменский с гордостью ставит номер ниже сотни своего авиационного диплома, в числе первых русских лётчиков.
Советская авиация, выросшая могуче, победно, бесконечно из старого пня русской довоенной авиации, должна помнить, что в списке первой сотни, прокладывавшей „крыловые пути” среди туч над равнинами России, значится имя Василия Каменского. Василий Каменский — не только великий русский поэт, но и один из первейших летайл наших, говоря словами Вити Хлебникова. В то время авиация была гениальным ребёнком в пелёнках, “вундеркиндом” — Вася Каменский был одним из первых кормилиц грядущей надежды.
Витя Хлебников увлекался авиацией с точки зрения словотворчества. Он тогда составил длинный список слов новых, специально им найденных, выдвинутых из языка русского. Всем известно, что Хлебников дал горячую клятву не применять в своей литературе и устной речи иностранных слов. Хлебников увлекался славянофилами. Не знаю, сохранился ли список этих слов, которые к моменту знакомства жизни с авиацией предлагал Виктор Владимирович подсунуть говорящим, чтобы предупредить вторжение в язык отечественный бессмысленных изделий невежд, болтунов и поклонников Запада. Я помню, что Хлебников предлагал вместо авиатор говорить летайло... Вместо праздник авиации — летины... По примеру слова стрельбище он предлагал слово леталище.
Если Хлебников размышлял об авиации в своих рукописях, то Вася Каменский успел вернуться из-за границы с аэропланом и совершить ряд показательных полётов над различными городами России. Как водится в таких случаях, Васеньку немилосердно обкрадывали: все поклонники авиации предпочитали любоваться диковинкой, расположившись на бесплатных местах вокруг импровизированного аэродрома — на заборах, ветвях дерев, телеграфных столбах, крышах домов и сараев. Хотя билетов любители авиации предпочитали не покупать, всё же в этот свой приезд, навсегда покончив с авиацией, Вася Каменский заявлял, что имеет возможность сейчас поехать в горы родимой Пермской губернии и свить себе там гнездо.
— Каменкой назову, дом на горе построю и баню берёзовую, Додичка, построю. Вот и сейчас, дорогой мой, покидаю вас и еду на Урал баню строить, бродяжить, на медведей охотиться.
На Малой Никитской, в деревянном домике комната Вити. Чтобы попасть к нему, нужно было пройти с улицы через ворота во двор: комната более чем бедная, в одно окно, солнца в ней никогда, видимо, не бывает, кровать, как каракатица, всё время норовит уронить спящего на пол. Единственный стул, стол и шкаф для платья, дверцы которого открыты. Вася, увидев Хлебникова, — три раза нежно поцеловал Витю в губы. Хлебников имел плохие зубы, с каждым годом я замечала, что они у него всё более портятся. За эти два года, как я первый раз его видела, Витя сильно изменился, посерел как-то, наружно: всегда с утра (если был здоров) одет в длинный сюртук; фигурой своей напоминал псаломщика: галстух ему заменяла узенькая чёрная ленточка, завязанная бантом: концы петель этого своеобразного галстуха были длинные, смахивая на скрученную бечёвку. Руки Хлебникова были большие, с длинными пальцами, где ногти пожелтели от табака; кожа рук была мягкой, как бы натёрта вазелином. Виктор Владимирович не любил умываться, ходить в баню. Не чувствовал склонности к воде как средству привести себя в порядок. Просто не думал обо всём этом.
Ноябрь гололедицей покрыл улицы Москвы. В номерах Романовки (меблированные комнаты на углу Тверского бульвара и Малой Никитской), где ученикам консерватории позволялось играть и петь с 9 часов утра до 11 ночи, Витя засел в уголке, в красном кресле около пианино и, шевеля губами, беззвучно читал свои стихи, в минуты недовольства левой рукой ероша свои волосы, а после этой операции пальцы, забытые им, ползли по щеке и шее вниз на колени. Глаза Вити смотрели высоко в тёмное окно, где были видны припавшие к стеклу пухлые снежинки.
Маяковский — юноша на пороге девятнадцатого года — являл собой тип недовольного апаша-испанца: в бархатной мягкой блузе, он был увенчан косматой шевелюрой: волосы юноши были черны и прямы. Маяковский начал соблазнять Хлебникова отправиться в баню. Было гарантировано, что туда и обратно он и Бурлюк доставят его на извозчике, и что бельё и носки уже припасены ему Марией Никифоровной. Через час чистенького, с отмытым лицом, подобревшего, конфузящегося Хлебникова посадили за стол пить послебанный чай.
Когда смотришь на Виктора Хлебникова, то всегда, главным образом, поражает, замечается, бросается в глаза, остается в памяти его большой открытый лоб с длинными морщинами, идущими лучами к носу.
Моя сестра Лидуша Еленевская и сестра моего мужа Надя Бурлюк любили Витю брать с собой, куда бы они ни шли: за покупками или билетами в театр. Советовались с ним, покупая шляпку. Барышни хватали Витю под руки, и он, улыбаясь, отправлялся с ними. Описываемой осенью 1912 года Наталия Гончарова была нездорова, сильно кашляла, нервы её были больны. Лида и Надя сидели у постели попеременно. Хлебников принимал участие в этих дежурствах.
Далее вспоминаю 1913 год, март. У княгини Кутушевой, в гостинице на Тверской, вблизи дома генерал-губернатора, Хлебников в этот вечер, читая стихи, имел исключительный успех: Маяковский и Бурлюк просили его читать громче.
— Да, я могу очень громко...
И Витя с глазами ясной воды океанской, ероша волосы пальцами, читал своё длинное стихотворение про древнюю Русь... нигде никогда потом, вероятно, не напечатанное, а Ольга Никодимовна, 43-летняя белотелая большая женщина, не нашедшая счастья с князем татарским (любил красивых и озорных цыганок), вдруг просветлела...
В зиму 1912–13 года Давид Давидович Бурлюк печатал много книг. Общество молодых поэтов ежевечерне собиралось в Романовке в наших номерах. Коридор старой, старомодной гостиницы освещался слабо, и на фоне робеющей темноты вставала худая фигура Георгия Богдановича Якулова, шагающая об руку с Бурлюком, почти всегда искрящимся весёлостью. Лицо Якулова лимонно-жёлтое. Волосы Георгия Богдановича иссиня-чёрные. Якулов нервными руками на ходу массировал под коленками гнущиеся ноги, не знаю, была то привычка, или же Георгий Богданович хворал ревматизмом. В этот вечер окончательно был выработан и подписан знаменитый манифест «Пощёчина общественному вкусу». Прочитав манифест, Якулов наотрез отказался поставить под ним свою подпись. Манифест этот писался в маленьком номере Давида Давидовича (номер 86), выходившем своим единственным заплаканным окошком на серо-жёлто-белые зимние крыши дворовых корпусов. С 10 часов утра собрались Владимир Маяковский, Алексей Кручёных и Виктор Хлебников: все четверо энергично принялись за работу. Первый проект был написан Давидом Давидовичем, затем текст читался вслух, и каждый из присутствовавших вставлял свои вариации и добавления. Отдельные места выбрасывались, заменялись более острыми, угловатыми, оскорбляющими, ранящими мещанское благополучие. Бурлюку принадлежит первая фраза: „сбросить с парохода современности”. Когда предлагали включить имя Максима Горького, Давид Давидович протестовал, указывая на его важность для века, как писателя-пролетария. В манифесте этом легко узнать различные мазки, сделанные молодыми горячими руками лидеров новой революционной литературы, Алексея Кручёных, и Виктора Владимировича Хлебникова, и Владимира Владимировича Маяковского.
Трое непрерывно курили. Узкий (кишкой) номерок наполнился дымом. И сквозь его синизну был виден стол с белыми листами черновиков новых, взрывных идей, и звучали молодые задорные воплощения ударных мыслей, коим суждено было сыграть роль поворотного пункта в истории русской литературы и всей культуры отечественной Евразии. Старое отбрасывалось: футуристы правили свой корабль в грядущее. Они, первые большевики, били и клеймили тупорылость мещанства и подхалимство буржуазной жёлтой литературы тех, кто приспосабливался; но современье писательское «Нового времени» и «Русского слова» кумиры клеймились презрением и хулой наряду со всем отвратительным царским бытом. Это утро декабрьское 12-го года (зима поздняя) было чревато гулкостью эха в грядущие годы. Все были настроены победно, празднично: росли крылья.
Пётр Петрович Кончаловский зашёл к нам в Романовку как-то в начале зимы: был он холёный, толстый, с красными щеками; играл на пианино испанские песни; пел и рассказывал об Испании. О бое быков. Кончаловский в Испанию ездил каждое лето неизменно в течение чуть ли не десяти лет подряд. Знал эту страну вдоль и поперёк, и если начинал поглаживать свою крепкую бороду, подбоченясь, тореадором поглядывая на собеседника, как на быка, то это значило, что Пётр Петрович сейчас пустится рассказывать об Испании. Начиная ещё с 1906 года стали на выставках русских появляться его сочно, ярко написанные холсты. Позже, когда основался «Бубновый Валет», Пётр Петрович стал бессменным председателем этого общества. Для роли председателя этот могучий художник, в котором так и переливается по жилкам живописная силища, был очень хорош. Пётр Петрович женат на дочери Василия Ивановича Сурикова Ольге Васильевне, он прекрасный семьянин. За границу ездили всегда всей семьёй. Искусством занимались также семейно. Если семья сама не писала, подобно главе, то неизменно, постоянно позировала для могучих холстов художника инкорпоре.
О Петре Петровиче надо сказать, что был он замечательным рассказчиком. За чаем в Романовке неописуемо изображал, как мылись они с братом-доктором в бане. Банной оргии помогали: трескучий от мороза снег, лунный свет и бутылки пива, выливаемые на раскалённый перекинутый котёл, чтобы помочь придать силе пара дубово-хмелевую крепость и жгучесть. По-рубенсовски заливаясь смехом, говорил Пётр Петрович: „Мылся с нами кучер-геркулес — сплоховал, а мы с Митей выдержали”. В день описываемого визита к нам Пётр Петрович Кончаловский лечил свои зубы в лечебнице зубных врачей-женщин и рассказывал, как о диве, что там была одна девушка с абсолютно здоровыми зубами; эту девушку, по его словам, беспрерывно заставляли широко раскрывать рот для демонстрации. Рассказывая об этом, Пётр Петрович сам раскрывал свой могучий рот, изображая эту девушку — идеал дантистов. „Я толстею, — говорил он, — мне 43, вот ужо зимой буду кататься с ребятами на коньках для гимнастики”.
Бурлюк посещал Школу живописи, не пропуская ни одного дня. Был там с 9 часов утра до 12 дня (живопись) и от пяти до семи (вечернее рисование); возвращался он всегда в обществе Владимира Владимировича Маяковского. По-прежнему заходили Хлебников и Кручёных, последний с отвращением всегда за чайным столом смотрел на масло — гадливое чувство вызывал в нем запах коровятины.
Помню, корректировался один из тогдашних сборников футуристов. Листы корректуры были разложены на столе с зелёным сукном, на котором принято играть в карты, и Хлебников наклонялся над ними на свои стихи: не садясь, он начинал бисерным почерком писать рядом варианты. Давид Давидович Бурлюк правил его корректуру сам, так как Виктору Владимировичу нельзя было давать в руки корректурных оттисков стихов его — всё равно не поправит, а напишет поверх и сбоку новое произведение.
В эти же годы была большая дружба братская между Бурлюком и Маяковским. Маяковский, мне думается, искренне любил Бурлюка: он неразлучен был с ним. Бурлюк, уверенный в силе растущего нового искусства, выдвинутого в предчувствии революции, помогал утвердиться прочности, нужности этого нового.
С Владимиром Владимировичем Маяковским Давид Давидович Бурлюк познакомился, когда в 1911 году поступил, по конкурсу, в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. К Хлебникову — схимнику, молчальнику — полный энергии, силы животной, Владимир Маяковский никогда не питал особой длительной склонности. Хлебников был чужд Маяковскому. Периодами — будучи в центре нового, под воздействием всеобщих восторгов, которые творчество Велимира Владимировича вызывало — Маяковский хлопал Витю дружески по плечу и... восхищался. Но проходило несколько недель, и снова Владимир Владимирович подходил к Бурлюку близко, и ревниво (слегка боясь сам своего вопроса) спрашивал: „Ну, Додя, ты всё понимаешь — скажи — ведь правда, стихи Хлебникова в конце концов пустяки...” Спрашивал, а сам, видимо, трусил — а вдруг работоспособность, культурность, глубочайшая одарённость великого...
Витя Хлебников, хотя с виду был тихоней, на самом деле характером был какой-то непокладистый, и по выходе книги, где были оттиснуты его стихи, никогда не оставался ничем доволен: ему казалось, что всего сделанного для него Бурлюком и Каменским мало („Бурлюком и Кручёных” в одном из воспоминаний сестры великого поэта Веры Хлебниковой, тогда малолетней и не разбиравшейся в фактах, которые старший брат рассеял3![]()
Виктор Владимирович Хлебников жил большею частью предоставленный собственным силам. Хлебников был в постоянном хроническом безденежье, вечно остро нуждался, родители не содержали его совершенно, видимо, чуждаясь его странностей. Поэзия Виктора Владимировича Хлебникова вызывала в кругу его близких насмешки. Рост литературной славы Велимира не находил эха восторга в чиновничьей семье, из которой он вышел и... ушёл. Когда о Хлебникове стали много писать, это рыло между ним и домом глубокий ров.
Вера Хлебникова больно задела в своих воспоминаниях самолюбие Давида Давидовича Бурлюка (о Кручёных не знаю), но трудно представить себе, что было бы с Витей, если бы не постоянные заботы о нём: то Васи Каменского, молившегося на Витю, заботившегося о нём всегда, как заботится только мать о своём сыне, если бы не дом Бурлюков, где Виктор Владимирович Хлебников с 1911 года по 1915 проводил и летом и зимой целые месяцы подряд, находя лучшие удобства, уход и полный покой от всех треволнений о куске хлеба. У Бурлюков была обширная библиотека, до пятнадцати тысяч томов, в которой часами рылся Витя.
Особенно дома рассердились на Хлебникова, когда он оставил университет. Велимир Владимирович о родне своей никогда ничего никому не рассказывал. Позже, когда его сестра Вера уехала учиться живописи (за границу), Виктор Владимирович стал восторженно иногда вспоминать её одарённость.
Был одинокий и, придя к нам в Романовку, сразу садился на диван к столу. Хотелось его накормить. Сёстры дарили ему какао. В руках всегда он держал какую-нибудь книгу и прочитанные страницы за надобностью и, чтобы было легче, отрывал. Эта манера была очень типичной для Хлебникова. Когда однажды он порвал очень дорогую книгу, на упрёк Давида Давидовича Витя ответил:
— Книга прочитана и... следовательно, не нужна более...
Кажется, ходил также часто читать в Румянцевскую библиотеку. Витя не рассказывал, не занимал женщин, подобно художнику Н.Н., блондину-украинцу, жившему в художественном общежитии. Вот один из этих [Н.Н.] анекдотов.
Батюшка деревни на Украине написал проповедь — не проповедь, а просто прелесть — и положил её в карман своих штанов, а потом, собираясь утром на службу, надел новые штаны... Пришёл момент читать проповедь, только беда... Лазит бедный по всем карманам и вдруг вспоминает, что... И вышла у попа проповедь замечательная:
— Живите, братие, по-божески... живите так... як написано... як написано... в моих старых штанах...
Заходил как-то в Романовку, среди массы ежевечерних посетителей Татлин, только что прогремевший, и Эльснер, пишущий диссонансами эстет. Обложка к его книге: женщины, одевающиеся на бал, в платьях с глубоко вырезанными декольте, женщины, пристёгивающие резинками чулки, в волосах у одной розан.4![]()
В Москве в 1912–13 гг. публичные лекции, диспуты, доклады об искусстве устраивались обществом «Бубновый Валет», главным образом в аудитории Политехнического музея. В 1912 году зимой особый интерес вызвал среди учащейся молодёжи “диспут” по поводу картины И.Е. Репина «Иван Грозный», в то время порезанной неврастеничным мещанином из Замоскворечья, по фамилии Балашов.5![]()
Толстый, красный — с огненными волосами, бурей стоявшими над лбом, он был какой-то чересчур уж, в своём буржуазном успевании, неподходяще спокойный, стоя на эстраде среди всеобщего возбуждения тысячной молодой толпы. На экране по изложении истории с картиной появилось самое произведение, цапнутое торопливой нервной рукой больного Балашова. Высоко в последних рядах аудитории, через два сиденья от меня, поднялась небольшая, в застёгнутом сюртуке, фигурка. Лицо, изборождённое сетями морщин, коричневатое. Фигурка заговорила глухим голосом, сразу ставшим близким и знакомым всем. Это был Илья Ефимович Репин.
— Я испытывал тревогу, приближаясь по залам к моему холсту... Да... в содеянном виноваты новые... бурлюки...
Был дан свет: картина с чёрными полосами балашёвской вивисекции исчезла с экрана. В окружающей толпе царила напряжённая тишина: все ждали скандала... событий. И.Е. Репина стали упрашивать перейти на эстраду, но он вдруг, видимо, потеряв спокойствие, с которым начал свою речь, речь ректора Академии, которого привыкли подчинённо слушаться, продолжал уже тоном раздражения и обиды:
— Я не хочу... Я сейчас уйду... Мне — только хотелось послушать, что скажут такой многочисленной аудитории... о несправедливо содеянном...
Проговорив это, устремился меж сиденьями вверх, а далее по боковому проходу в гардеробную. Прихрамывая, Щербиновский поспевал за Репиным. Остановившись в дверях, ярый ученик вождя передвижников потрясал суковатой палкой своей в воздухе и слал проклятия молодым и новым, веянию революции, занимавшим эстраду, где из теста изваянный Зевс (Хлебников о Волошине) плотски представлял старшее поколение символистов.
Когда гости покинули зал, Бурлюк приступил к чтению своего доклада:6![]()
![]()
Были лекции и по новой литературе. Об искусстве всегда экспромтом говорил Бурлюк, а потом обычно поэтами новой группы читались стихи. У длинного стола на эстраде аудитории Политехнического музея усаживались все вожди революционного, большевистски непримиримого искусства.
Выступления В. Хлебникова неизменно вызывали скандал. Хлебников читал настолько тихо и невнятно, что с первой фразы отовсюду начинали греметь яростные, взбалмошные, капризные вопли: „Долой!”. Тут уж никакие увещевания весёлого Бурлюка не могли водворить тишины и родить желание послушать “великого Хлебникова”. „Современность всегда жестока к своим гениям...”. Давид Давидович брал у растерянного, не понимающего Вити рукопись на куске скомканной бумажки. Бурлюк разбирал почерк Хлебникова без ошибок, поставленным (для пения) голосом, не сдающим силы тона, начинал звучно читать поразительные стихи Хлебникова: «У колодца расколоться так хотела бы вода...»,8![]()
Однако с искусства этого не только нажить роскошных квартир, а нельзя было даже существовать, надо было бояться, как бы не умереть с голоду... Так оно позже, в 1922 году, и случилось с великим, истинно гениальным Велимиром Хлебниковым. И жаль, что Владимир Маяковский, будучи в Москве (1918–1922 год) в славе, не поддержал Вити Хлебникова, не взял на себя заботу об этом поэте-ребёнке, которому тоже надо было каждый день есть.
На этих выступлениях Владимир Владимирович Маяковский только начинал учиться говорить, но уже во время турне 1913–14 гг. по 33 городам России он стал бесподобным мастером ораторского искусства.
Кручёных производил впечатление мальчика, которому на эстраде хочется расшалиться — и то бросать в публику графином с водой или же вдруг начать кричать, развязав галстух, расстегнув манжеты и взъерошив волосы. Голос Алексей Елисеевич в то время имел пискливый, а в характере особые черты чисто женской сварливости. Дружбой ни с кем Кручёных особенно не дорожил и при случае любил посплетничать. Бурлюк очень ценил необычайную остроту критического анализа, отличавшего А.Е. Кручёных во время его тогдашних выступлений.
Лето 1913 года мы провели с Бурлюком в Чернянке в Таврической губернии, о которой теперь Бенедикт Константинович Лившиц написал такие взрывные, ракетящие страницы.9![]()
Последнее лето семьи Бурлюков в Чернянке быстро летело. Под моим сердцем шевелилась “смена”. Белые вуали тучных цветений сменились чахлой зеленью дерев, опалённых сладострастным дыханием русского юга. Степь, полная румяного ветра, — лиловые цветы собольки уступили редкой пышности ковыля, по которому паслись тысячеголовые стада Мордвинова. Бурлюк писал этюды сада, степи, кукурузных полей, луж после проливных дождей, а я сидела под мольбертом на стуле, в тени холста читая вслух весьма толстую книгу немецкого профессора об искусстве в связи с общим развитием культуры...
В свободное от живописи время Давид Давидович Бурлюк писал стихи. Брат его Николай Бурлюк был занят писанием романа, где дамы путешествовали по степям в карете, ведя разговоры. Николай Давидович много читал, любил также петь, но голоса не имел никакого, а притом ещё страдал отсутствием музыкального слуха. Володя Бурлюк ухаживал за Эммой (хуторянкой), немочкой из Британов: катался в шарабане или верхом по степи, и часто днём в мастерской (так называлась комната с двумя окнами, где Бурлюки писали) в дождливую или ветреную погоду спал, заставившись высокими холстами, чтобы не возбуждать разговоров Людмилы Иосифовны (матушка) о безнравственности ночных похождений. Володя был милого характера... с женщинами соглашался, слушал их укоры, но скоро всё забывал...
В августовские вечера вся молодёжь ездила на больших мажарах с сеном в Британы купаться в Днепре... И дом, такой гулкий, шумный от многих голосов... прислушивался столетне к тяжёлым неверным шагам высокого старика с перекошенным лицом от вяло опустившейся в левой части рта губы.
— Мусинька... ты хорошая женщина... скажи, чтобы подавали мне кушать... и не жди Додю... ложись спать... Меня смущало замечание о моём положении.
21 августа по старому стилю в Херсоне в доме Воронько на Богородицкой улице родился у меня малютка — Додик... Музыкой почудился его слабый писк. Бурлюк во время родовых мук не оставлял меня, держал за руки, а матушка Людмила Иосифовна плакала, прося потерпеть... Она была поэтическая женщина, как-то легко шедшая по жизни.
| Передвижная Выставка современного изобразительного искусства им. В.В. Каменского | ||
| карта сайта | 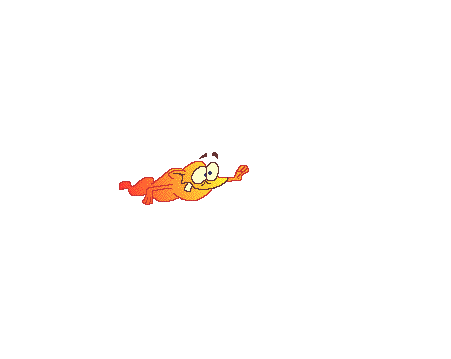 | главная страница |
| исследования | свидетельства | |
| сказания | устав | |
| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||