

В этих записках я буду называть Алексея Елисеевича дядей, как называла его в жизни все сорок лет нашей дружбы.
У Елисея Петровича Кручёных было трое детей — Фёдор, Алексей и Лукерья (Луша). Родились они все в селе неподалёку от Херсона.
Елисей Петрович был крестьянином, служил выездным кучером в одной из экономий богатой местной помещицы. Выездным назывался такой кучер, который возил хозяйку в парадном выезде на самых лучших, самых красивых лошадях, а потому для этих целей хозяева выбирали себе самого красивого и весёлого наездника. Таким и был Елисей Петрович. Красота его была сродни той, что награждают в былинах и сказках добрых молодцев: глаза синие-синие, лицо белое, румянец во всю щёку, брови чёрные, густые, кудри русые, широкоплечий, ладно, крепко сложен — красавец, да и только! Его кормили, поили, красиво одевали, работой особенно не морили — ездил не так часто, а только когда нужно было хозяйке. Остальное время ничего не делал. Поэтому крестьянской работы он не знал, ничего из этого ремесла не умел, и когда оказался в городе, ему пришлось купить выезд, лошадь и стать городским извозчиком.
Я помню его с этого времени. Мне было года 3–4, а он уже был полный, носил очень красивую бороду и усы. Волосы папа стриг ему так, что сзади, из-под цилиндра, которые носили извозчики, на воротнике лежали русые кудри, в которых уже блестели седины.
Свою бабушку, жену Елисея Петровича, я вовсе не помню. Она умерла до моей памяти. О ней могу сказать только со слов родных.
Бабушку звали Епистимия. Она была среднего роста, очень миловидная и очень добрая. Мой папа женился, когда мать его уже была тяжело больна: она была прикована к постели, хотя паралич был ещё неполный. Оставались живыми очень выразительные большие печальные глаза. Она тяжело переносила свою неподвижность, сильно страдала от этого. Моя мама очень любила её и жалела, говорила мне, что по выражению глаз бабушки всё понимала, что та хотела сказать.
Отец бабушки Епистимии — Никифор — был жутким человеком. В конце прошлого века под Херсоном строился Благовещенский монастырь, и вот он отдал в монашки двух своих дочерей, совсем молоденьких, хорошеньких, тихих и послушных, отдал на “служение Господу”.
А так как монастырь только строился, всех несчастных послушниц посылали по миру просить “на благолепие Храма Господня”. Они должны были в любое время года, в погоду и непогоду, ходить со двора во двор с медной кружкой на груди, не минуя ни церкви, ни кабака, и просить “во имя Христа”.
От такой жизни одна из сестёр вскоре сильно простудилась и умерла от скоротечной чахотки. А вторая сестра умерла несколько позже, в году 1906–1907. Папа и мама были в том монастыре (тогда уже почти построенном) на похоронах своей тётки и привезли оттуда и долго берегли как память несколько небольших дорожек-ковриков, сделанных руками умершей. Это было единственное, что осталось от двух молодых жизней. Я как-то заговорила с дядей о них. Он сказал, что помнит своих тётушек, их набожность и кроткость. И добавил: „Они были очень миловидные и добрые, мои тёти”.
(В своих воспоминаниях дядя писал как-то, что тётушки всё пытались научить его религиозным песням, приобщить к Богу, что вызывало в нём протест, и он даже нагрубил одной из них, наиболее настойчивой, якобы сказав: „Чтоб вы, тётя, сдохли!..” В нашем разговоре дядя ни разу не помянул об этом или подобных “инцидентах”, и говорил о тётях только хорошо).
Третья дочь — Епистимия — не знаю, каким чудом, избежала участи своих сестёр и вышла замуж за Елисея Петровича...
Мой отец родился в 1881 году. Где и как он получил образование, не помню. В 1902–1903 годах отец принимал участие в подпольных кружках рабочего движения, поэтому в доме Кручёных часто собирались кружковцы. Они читали запрещённую литературу, спорили. Для конспирации занимались фотографией. В 1905 году по Херсону и другим городам России прокатились еврейские погромы. Отец и мать укрыли в своём доме две еврейские семьи. Черносотенцы, не найдя несчастных дома, ринулись к нам. Во дворе в это время засели вооружённые подпольщики. Во всех окнах дома были выставлены иконы, а маму — она была тогда беременна — с иконой впереди поставили на калитке. Погромщики кричали, ругались, угрожали, но тронуть маму не посмели, ушли. От чрезмерного волнения у мамы преждевременно родился сын — “жертва погрома”, как его окрестили, а назвали Алексеем — в честь папиного брата, которого он очень любил.
Отец был хорошим охотником. Он сам смастерил большую лодку и маленький охотничий каюк. Часто ездил поохотиться с кем-нибудь из товарищей, а бывало — мы выезжали всей семьёй отдыхать в днепровские плавни на день или два. Там встречались с другими семьями.
Мужчины ловили рыбу, били дичь. Когда женщины готовили на костре еду, мужчины собирались вместе неподалёку и о чём-то беседовали. Иногда тихо, едва слышно, иногда громко, а бывало и шумно. Как позже я узнала от родителей, такие пикники устраивались для прикрытия нелегальных сходок. Такой способ общения подпольщики больше всего использовали летом, хотя зимой отец тоже нередко ходил “на охоту”. Долго использовать одни и те же методы работы было небезопасно, искали и другие пути...
Папа был атеистом, поэтому мы, его дети, росли спокойно и свободно — нас не запугивали ни Богом, ни чёртом, ни ведьмами, ни домовыми. Интересно отметить такую ещё деталь: дедушка, несмотря на то, что мы жили возле самой церкви, ни разу в ней не был.
Умирая, дед Никифор оставил наследство. Распределил его так: лошадь с выездом — своему зятю, Елисею Петровичу, а дом вместе с хозяйством оценил в девять тысяч рублей и отписал внукам — Фёдору, Алексею и Луше. Значит, каждому по три тысячи. Вот на эти-то деньги — свою долю — учился и жил Алексей Елисеевич в Одесском художественном училище, куда поступил сразу же после окончания херсонской гимназии. Так как продать третью часть дома было невозможно, дядину долю папа частями систематически высылал ему в Одессу. К концу учёбы он получил почти все свои деньги, а по окончании училища и недостающие. Таким образом, хозяйство и дом остались за моим отцом, но дядя этому не только не огорчался, но и способствовал, так как в Херсоне оставаться не собирался.
В годы учёбы в Одессе дядя часто приезжал домой. Держался, как рассказывала мама, очень странно. Занимал он в нашем доме одну большую комнату в четыре окна. Попросил убрать из неё всю мебель и без разрешения к нему не входить. Жил очень замкнуто, с семьёй общался мало, со своим отцом у него вообще ничего общего не было. Зато с братом Фёдором был очень дружен.
Меня дядя увидел годовалым ребёнком. Я была очень маленькая и худенькая. Он сказал, взглянув: „Какая маленькая, как мушка!”. После его отъезда меня ещё долго называли „мушкой”.
Наша семья была большая, готовили каждый день, варили вкусно, ели досыта. Но дядя с нами не ел. У него была маленькая спиртовка, небольшие поллитровые посудки. Варил он себе немного манной каши, одно-два яйца, а запивал всё это кружечкой молока. Семья очень переживала, что он ест редко и очень мало, говорили ему об этом, приглашали к столу. Он отвечал: „Я так привык, меня это устраивает, я не могу менять свои привычки, и вообще прошу меня не беспокоить — я живу так, как мне нравится, как считаю нужным”.
Вставал дядя по-разному: иногда очень рано, и сразу же бежал на этюды, а иногда поднимался только к обеду и оставался писать дома. Уходил и приходил в любое время дня и ночи — у него был отдельный ключ и вход.
Однажды дядя встал очень рано — было ещё прохладно. Накинул папину пелерину с капюшоном и пошёл на этюды. Рисовал в альбом карандашом, сидя на маленькой раскладной скамеечке на углу улицы (Качельной, что на Забалке). Мимо проходила старушка, должно быть, приняла его за монаха и подала ему монетку. Он был ошеломлён! Не мог даже сразу понять, в чём дело. Прибежал домой взволнованный, но весёлый и, смеясь, говорил: „Вот моя первая монета, полученная ни за что, просто даром. До сих пор я их зарабатывал!..”.
По приезде в Херсон из Одессы, дядя первый визит делал в городскую библиотеку. Там его хорошо знали, очень уважали и всегда были рады приходу. Одна работница библиотеки была знакома с моей мамой. Бывало, прибежит к нам домой и рассказывает: „Грушенька, приехал наш любимец из Одессы! Если бы ты знала, как мы его встретили! Развернули перед входом красную дорожку, вручали цветы. Ой, Грушенька, какой он красивый, как чудесно говорит! А голос такой, что раз услышишь — век не забудешь”. Как-то на мамин вопрос, за что Алексею оказывают такие почести, работница эта ответила, удивляясь маминому незнанию: „Как это за что? Ведь он наш почётный посетитель! К тому же, часто сам выступает или устраивает у нас вечера”.
Значит, по утрам дядя ходил на этюды, дома работал тоже, днём читал в библиотеке. А вечерами? Точно трудно сказать. Мама говорила, что он часто бывал у сестёр Диканских, имевших в Херсоне свою частную клинику глазных болезней. У них собиралась прогрессивная творческая молодёжь губернского города и окрестностей: писатели, художники, артисты. Можно предположить, что именно там, у Диканских, дядя впервые повстречался с Бурлюками и другими, с кем он начинал свою художественную, а затем и литературную деятельность.
Вполне возможно, что у сестёр Диканских весело обсуждались и карикатуры на знатных херсонцев дядиной работы. Ведь в провинциальном и захолустном тогда Херсоне издание карикатур и шаржей на местных знаменитостей произвело эффект разорвавшейся бомбы. Отец и мама рассказывали, какую бурю негодования и одновременно любопытства вызвал у буржуа «Весь Херсон...»! Многие из них старались закупить побольше комплектов открыток, чтобы публика поменьше видела их настоящие физиономии-натуры, ибо дядя был первоклассным карикатуристом (смею утверждать) и передал сущность портретируемых превосходно. Кроме того, изображённых было совсем нетрудно узнать — все были очень похожи.
Я читала газеты того времени, и то, что там писали о дядиных шаржах и карикатурах, абсолютно совпадает с тем, что мне позже рассказывала мама: дядины выпуски расходились в мгновение ока. Конечно, мои родители тогда купили экземпляр, хотя сделать это папе было весьма нелегко. Этот альбомчик долго хранился в нашем доме...
Позже дядя рассказывал мне, что для этих открыток ему, естественно, никто не позировал. Наоборот! Ему даже старались не попадаться на глаза. Дядя говорил, что в местных газетах того времени полушутя писали, что в местную Думу многие её члены ходят нерегулярно из-за боязни попасть в альбом карикатур Кручёных.
После отъезда дяди из Херсона (кажется, это было в начале февраля 1910 года — сразу же после успеха карикатур), мои родители часто вспоминали о нём, а папа переписывался с ним. Они очень радовались за дядю, когда он присылал из Москвы свои первые книги стихов. Я помню только «Игру в аду» — эта книга большого формата, тонкая, с рисунками углём, лежала у нас на гарнитурном столике. С детства помню её начало:
У нас было и несколько этюдов дяди. Папа ими дорожил, они у нас висели в лучшей комнате.
На одном этюде была написана деревенская хатка год камышом, низенькая, в одно окно и вся заросшая зеленью. Под окном, на первом плане, замечательно выписанные мальвы — тёмно-красные, бархатные и нежно-розовые. Этюд был написан смело, пастозно, сочно. Написан на срезе ствола берёзы. Я очень любила этот этюд.
Второй этюд дядя писал в нашем дворе: дом, веранда, заросшая диким виноградом, и на веревке несколько детских вещиц — они как-то удивительно вписываются в зелень.
Помню ещё один. Голова молодой женщины. Лицо смуглое, почти чёрные волосы, причёсанные на ровный пробор и собранные в тяжёлый жгут на затылке. Лицо — три четверти профиля, небольшой ракурс с наклоном вниз. Только голова и шея, чуть-чуть задето плечо. Писано пастозно, крупным уверенным мазком по форме. Чувствуется большое сходство с натурой.
Жаль, две войны, две эвакуации, революции, бесконечные переезды унесли куда-то эти этюды, письма дяди к отцу — ведь тогда он был членом группы футуристов «Гилея», — нашу небольшую, но весьма ценную библиотеку и многое другое, что так или иначе было связано с дядей, его творчеством.
К слову, о футуризме. Позже я много думала о сути манифеста «Пощёчина общественному вкусу», об истинном отношении дяди к классическому наследию в литературе, музыке, живописи. Сопоставляя все “за” и “против”, пришла к выводу, что не любя — пусть глубоко в душе, скрыто от других, — классическое наследие в культуре, не пройдя через него и не обогатившись им, он не стал бы тем удивительным поэтом-новатором, которого знают сейчас все. И, как подтверждение моим мыслям, вспоминаю наше с ним посещение в 30-х гг. выставки полотен Рембрандта в Музее Западного искусства. Пригласил меня туда дядя.
Осматривая всё очень внимательно, мы часто останавливались у той или другой картины. Очень долго и пристально смотрели «Данаю» и «Возвращение блудного сына». Затем дядя сказал мне: „Обрати внимание, какая разная техника”. А вообще, он ходил и чувствовал себя как-то странно — будто случайно попал в родной дом, в котором всё так близко и знакомо, но в котором он давно, очень давно, не был...
1968–1986 годы
Подготовка текста и публикация Сергея Сухопарова
Наша семья переехала из Баку в Москву, когда мне еще не было трёх лет. Прибыли мы в столицу 14 августа 1924 года. Конечно же, точную дату я узнала позже от взрослых, а вот самый этот день, хотите верьте, хотите нет, я помню прекрасно, как и все последующие дни, месяцы, годы и десятилетия. ‹...›
Первый поэт, которого мне пришлось увидеть в жизни, был Алексей Кручёных. Мама была с ним знакома задолго до моего рождения, и я помню Алексея Елисеевича Кручёных столько же, сколько самое себя. Их дружба началась в 1918 году, в Тифлисе. Они встречались в знаменитых ныне литературных грузинских кафе «Фантастический кабачок», «Химериони», участвовали в поэтических вечерах, печатались в тифлисских газетах и журналах, были тесно связаны с талантливой группой «Голубые роги» — поэтами Тицианом Табидзе, Паоло Яшвили, Валерианом Гаприндашвили, Георгием Леонидзе, с художниками Ладо Гудиашвили и Ильей Зданевичем, с актрисой Верой Мельниковой и многими другими яркими представителями грузинской и русской интеллигенции, составившей ядро так называемого тифлисского авангарда.
Когда мы приехали из Баку, Кручёных уже жил в Москве, принимал деятельное участие в литературной жизни столицы, много выступал и активно занимался изданием как собственных книг, так и своих друзей. Вскоре он стал нашим ежедневным гостем. Впрочем, это не совсем точно, ибо появлялся у нас в доме несколько раз в день.
Кручёных не приходил, а прибегал. Он всегда бежал — по улице, по двору, по коридору, по комнате. Сидеть на одном месте для него, очевидно, было мучением, потому что даже ел и пил он стоя, пританцовывая. В нашей семье всегда царило кавказское гостеприимство, гостям всегда отдавалось (и до сих пор отдаётся!) всё лучшее, а вот Кручёных угощали редко — видно, не считали за гостя, хотя все — и отец, и бабушка — относились к нему доброжелательно. Но если Кручёных оставался отобедать или отужинать — это была целая церемония. Хлеб он, перед тем как съесть, обжигал на керосинке, а позже на газу, посуду тщательно протирал ваткой, смоченной в марганцовке, от кипятка требовал, чтобы он кипел ключом, и крышка на чайнике обязательно прыгала. У нас так и говорили: „кипит по-кручёновски”. Алексей Елисеевич утверждал, что чай должен быть, как поцелуй, — крепкий, горячий и сладкий, и бросал в чашку не менее пяти кусков сахара. В морозные дни, выходя на улицу, чтобы не разговаривать со встречными и не застудить горла, Кручёных набирал полный рот горячей воды и не заглатывал её до той поры, пока снова не попадал в тёплое помещение.
Я знала от матери, что Кручёных — футурист, соратник Хлебникова и Маяковского, которых чтили в нашем доме, и относилась к нему с опаской и уважением. Мама рассказывала, что в молодости Кручёных, так же как и его друзья — Маяковский, Бурлюк, Каменский, — носил жёлтую кофту и морковь в петлице. Мне это очень нравилось, и в глубине души я жалела, что они сменили этот наряд на обычные скучные костюмы. Под мышкой у Кручёных всегда был потёртый кожаный портфель с блестящими застежками, а на голове — ярко расшитая тюбетейка. С годами портфель порыжел, а тюбетейка утратила яркость. В детстве я даже думала, что Кручёных спит с портфелем под мышкой и в тюбетейке.
Приходя к нам, он тут же на ходу открывал портфель, доставал из него какие-то листки, читал вслух свои странные стихи, потом они с моей матерью о них яростно спорили, вносили поправки в текст, и Кручёных снова прятал листки в портфель и убегал куда-то, чтобы через несколько часов появиться вновь.
Мне очень нравились его стихи «Дыр бул шил», мы, дети, превратили их в считалочку. О другом его стихотворении «Хлюстра упала на лысину графа» я знала, что написано оно про моего деда со стороны отца — Дмитрия Евгеньевича Толстого, и хотя деда почти не помнила, но гордилась, что дед удостоился чести попасть в поэзию.
Всю жизнь Кручёных прожил холостяком и к детям относился с осторожным любопытством. Ещё в 1914 году он впервые в России собрал и издал «Собственные рассказы, стихи и рисунки детей». У нас была эта книга, напечатанная на разноцветной бумаге: рисунки на оранжевых листах, тексты на голубых. Но мне больше нравилось второе издание. Оно вышло в свет в 1923 году и, как все издания первых лет после революции, не отличалось роскошью. Серые тонкие листы, мелкая узкая печать, мягкая грязно-серая обложка. Но зато там было написано и про меня, правда, одна строчка: „Лида Толстая двух лет называет сахар — мазарган”. А обложка была исполнена по рисунку трёхлетнего Никиты Фаворского и изображала, как утверждал в подписи к ней юный художник, „людей, цыплят и огород”. Люди, цыплята и огород были почти одного роста, а на огороде произрастали какие-то экзотические растения. Но была в этих треугольных человечках и остроугольных цыплятах такая наивная и загадочная прелесть, что я подолгу рассматривала их и даже сочиняла про них весёлые истории.
Часто Кручёных появлялся не один, и с ним всегда приходили интересные люди. Так он привел к нам Юрия Олешу, Артёма Весёлого, Николая Асеева, которые потом стали друзьями нашей семьи, позже Павла Васильева.
В те годы телефонов в Москве было мало, и потому во многих домах назначались специальные дни, когда “принимали”.
Это означало, что хозяева в этот вечер всегда дома, готовилось скромное угощенье, и гости могли прийти без предупреждения. А так как дни недели в те годы были фактически упразднены — в стране действовала “непрерывка”, и выходные у всех были в разные дни, — то назначались числа. У нас это были 3,13 и 23-е. Пили чай с бутербродами, реже — лёгкое вино, читали стихи или отрывки из новых произведений, обсуждали их, иногда играли в преферанс. Обычно это бывало, когда Кручёных приходил с Николаем Асеевым. Тогда Кручёных усаживал меня возле себя — говорил, что я приношу ему удачу, а из небольшого выигрыша мне выдавался пятачок на мороженое.
Но самым большим праздником становился день, когда в Москву приезжали мамины друзья — грузинские поэты. Накануне отец приводил извозчика, и нас с бабушкой отправляли в Охотный Ряд закупать провизию для праздничного стола. А на следующий день к вечеру меня посылали во двор встречать гостей. На улицу выходить одной категорически запрещалось, чтобы не попасть под колёса извозчиков, и я с замиранием сердца слушала из-за железной калитки, когда наконец раздастся повелительное „тпру-ру-у”, калитка со скрипом отворится, пропуская дорогих гостей.
Первым вбегал, словно бы танцуя, лёгкий и стройный Паоло Яшвили, он хватал меня на руки и весело кружился со мной. Потом вплывал величественный Тициан Табидзе, он клал мне руку на голову, словно благословляя. Сзади по-журавлиному вышагивал Сергей Городецкий, и наконец всё с тем же портфелем под мышкой появлялся Кручёных. Потом бывали удивительные застолья, весёлые и красивые, с обязательным чтением стихов, грузинским пением и речами-тостами. И Тициан, и Паоло обращались к Кручёных с уважительной нежностью, произносили в его адрес добрые слова, называя талантливым экспериментатором.
На меня Кручёных лет до десяти не обращал внимания и порою даже раздражался, когда я отвлекала маму совершенно не нужными, с его точки зрения, просьбами или вопросами. А потом мы с ним очень подружились. Он много рассказывал мне о Маяковском, которым мы все тогда увлекались, о Есенине, а однажды, узнав, что мы с моими школьными друзьями ездим весной на могилу Есенина и возим туда охапки черёмухи, вдруг принёс маленький букетик ландышей и словно бы между прочим торопливо сказал: „От меня положите…” Но когда я пыталась рассказать, что мы исполнили его просьбу, слушать не стал и никогда потом об этом не вспоминал.
Я всегда очень любила (и до сих пор люблю) свой день рождения, с нетерпением ждала его, радовалась гостям, поздравлениям и подаркам. И как-то однажды, ещё школьницей, подумала: „Как же Алексей Елисеевич? Живёт один, кто ему празднует день рождения?” И когда он пришёл, спросила его об этом.
Мой вопрос удивил его и даже смутил, в ответ он пробормотал что-то невнятное. И тогда я очень твёрдо сказала: „Алексей Елисеевич, теперь я буду каждый год праздновать ваш день рождения. В этот день вы можете приводить кого угодно”.
Так, с середины тридцатых годов и до конца шестидесятых, а первые годы и после смерти Кручёных, 21 февраля у нас накрывался стол, и собирались все, кто с любовью и уважением относился к новорожденному. А так как Кручёных вставал очень рано — часов в 7 утра и, соответственно, рано ложился спать, — в 9 вечера к телефону он уже не подходил, то гости у нас собирались к трём часам пополудни, к обеду. Правда, случалось, что обед переходил в ужин, но сам герой сразу после семи откланивался и уходил домой.
Кого только не перебывало на этих обедах! Появились и постоянные посетители, приходившие из года в год. Так, начиная с военных лет и до последнего дня жизни Кручёных, завсегдатаем на обедах был Сергей Михалков. Он сердечно приветствовал новорожденного и приносил ему полезные и дорогие подарки — прекрасный тёплый свитер, казавшийся в те годы неслыханной роскошью, мохеровый шарф, красивые рубашки и к тому же в конверте — деньги по числу лет новорожденного. Приходила с ним и Наталья Петровна Кончаловская. Таким же постоянным гостем был Михаил Аркадьевич Светлов, всегда сопровождавший свои тосты шуточными стихами, к примеру, такими:
Пусть простит меня читатель, что я нарушаю хронологическую канву и забегаю вперёд, но об Алексее Кручёных у нас незаслуженно мало знают, и, раз заговорив о нём, мне не хочется прерывать свои воспоминания.
Помню, с какой гордостью попросил меня Алексей Елисеевич 21 февраля 1946 года, когда ему исполнилось шестьдесят лет, огласить поздравительные стихи Бориса Пастернака:
Я уже писала о том, что круг литературных связей Кручёных был необычайно широк, поэтому в день его рождения собирались самые неожиданные люди: Лев Никулин и Сергей Васильев, Вениамин Каверин и Ярослав Смеляков, Семён Кирсанов и Александр Дейч, Вера Инбер и Иосиф Игин, Маргарита Алигер и Лев Левин. Всех перечислить просто невозможно!
Особенно запомнился мне день, когда Кручёных пригласил Анну Андреевну Ахматову. Она вошла, царственная, в большой шёлковой шали, её усадили в центре стола. Когда были произнесены первые тосты за новорожденного, Анну Андреевну попросили почитать стихи. Она так же величественно, не заставляя себя упрашивать, много и охотно читала. Кроме Кручёных из собравшихся за столом Анна Андреевна хорошо была знакома только со Львом Вениаминовичем Никулиным. И между ними завязался свой разговор, в котором звучали для них привычные имена: Николай (Гумилёв), Марина (Цветаева), Борис (Пастернак) — они произносили эти имена буднично, а все мы, кто был младше, неназойливо и благоговейно прислушивались к их беседе.
На память об этом дне у меня осталась надпись, сделанная Анной Андреевной на моей скатерти, где гости оставляют обычно шутливые строчки. Но Ахматова, верная себе, и здесь не снизошла до шутки, а написала строчку из своих стихов:
Когда Алексею Кручёных должно было исполниться восемьдесят лет, нам, его друзьям, хотелось торжественно отметить этот день, и мы решили устроить обед в Доме литераторов. Мне поручили собрать деньги, и как охотно откликнулись на это самые разные люди: Виктор Шкловский и Илья Эренбург, Лиля Брик и Василий Катанян, Семён Кирсанов и Ярослав Смеляков, Сергей Михалков и Вера Инбер и многие другие. В результате в гостиной Дома литераторов на втором этаже 21 февраля 1966 года собралось человек сорок писателей разных поколений и направлений, понимающих роль и место Алексея Кручёных в литературе, по достоинству ценящих то, что сделал он для развития русской поэзии. Сам юбиляр был необычно торжественен — чисто выбрит и даже надел белоснежную рубашку и повязал тёмно-синий галстук. С достоинством выслушивал он речи в его адрес, но мне казалось, что он несколько растерян и от обильного стола, и от состава присутствующих — ведь здесь собрался цвет нашей литературы.
Через несколько месяцев, весной 1966 года, Секция поэтов организовала официальный вечер, посвящённый восьмидесятилетию Алексея Кручёных, состоявшийся в Малом зале ЦДЛ. Зал был полон. С длинной речью выступил Андрей Вознесенский, говорили добрые слова Николай Глазков и Семён Кирсанов. К трибуне направился юбиляр. На этот раз торжественности в нём не чувствовалось — обычная клетчатая ковбойка, помятый пиджак, выцветшая тюбетейка, а под мышкой неизменный портфель. Поднявшись на трибуну, Кручёных привычным жестом расстегнул портфель и достал маленький, смятый букетик цветов.
— На юбилее полагается быть цветам, — сказал он. — А так как никто из вас принести цветы, конечно, не догадался, я принёс сам! — и сунул его в стакан с водой, предназначенный для ораторов.
Речь его была, как всегда, сбивчива, но в ней то и дело звучали имена друзей его юности — Велимира Хлебникова, Владимира Маяковского, Давида Бурлюка, Василия Каменского, Николая Асеева. Цветы ему всё-таки дарили, и довольно много. А после вечера несколько его друзей пригласили Алексея Елисеевича за столик в ресторане, заказали шампанское, а он потребовал принести ему стакан кипятка и подливал кипяток в шампанское, боясь простудиться, хотя вечер был весенний и тёплый.
Последний раз мне пришлось побывать у Алексея Кручёных осенью 1966 года. Приехал в Москву из Америки Роман Якобсон и захотел встретиться с Кручёных. Решено было принять Якобсона в комнате соседа Алексея Елисеевича по квартире, скульптора Андрея Древина.
Когда Роман Якобсон ушёл, Кручёных провёл меня в свою комнату Она всегда производила странное впечатление — обстановки там, по существу, никакой не было: железная кровать, небольшой квадратный стол, всегда уставленный бутылками из-под кефира, два стула, а по стенам от пола до самого потолка груды книг и папок, прикрытые тёмно-серыми кусками ткани. Как он разбирался в этом хаосе книг и рукописей, ума не приложу, но всегда, когда требовалась какая-то книга или тетрадка, он безошибочно находил её. Лампочка над столом обёрнута газетным прогоревшим листом. В этот раз комната показалась мне особенно грустной и заброшенной. Я предложила, что приду к нему на днях и наведу здесь хотя бы относительный порядок. Но Кручёных категорически воспротивился:
— Пусть всё будет так, как есть, мне так удобно! У каждой вещи своё место…
Последние два года своей жизни Кручёных редко появлялся на людях, и после того, как в 1965 году умерла моя мать, у нас почти не бывал, хотя каждый день утром и вечером звонил по телефону, иногда подолгу разговаривал со мной или с кем-нибудь из детей, но чаще ограничивался несколькими приветственными словами, словно отмечался. В ЦДЛ тоже заглядывал редко. В последний год зачастил к художнику Иосифу Игину, который жил через два дома от него на Мясницкой, просиживал у него часами, наблюдая, как тот рисует, охотно беседовал с людьми, которые приходили к нему позировать. Собирал и уносил с собой черновики и наброски шаржей, которые Игин бросал в корзину. Однажды, запутавшись в длинном телефонном шнуре, он уронил телефон, и тот разлетелся вдребезги. Кручёных был очень смущён, пытался всучить Игину деньги за разбитый телефон, но тот ласково сказал ему:
— Что вы, Алексей Елисеевич, я сохраню этот аппарат как величайшую драгоценность, буду его всем показывать и говорить: „Его разбил сам Алексей Кручёных, наш знаменитый футурист!”
И Кручёных, по природе страстный коллекционер, понимающе заулыбался…
Летом 1968 я вернулась из длительной поездки по Югославии. Путешествие было интересным, насыщенным, солнечная погода сопровождала нас во всё время путешествия, настроение было весёлое, приподнятое. Едва я вошла в квартиру, раздался телефонный звонок, и всё в том же радостном настроении я сняла трубку. Говорила соседка Кручёных по квартире:
— Сегодня в больнице от воспаления лёгких скончался Алексей Елисеевич. Пожалуйста, сообщите об этом в Союз писателей…
Поверить в сказанное было невозможно, я ведь даже не знала, что он болел. И в голове вдруг запрыгали стихи, что я знала еще с детства:
И вот нет на свете Круча, Кручёных, Алексея Елисея — всех поэтов словосея. А мне-то казалось, что так же, как он присутствовал в моей жизни всегда, так и будет вечно. Общаясь с ним, как-то забывалось, что все люди смертны…
А потом был яркий летний день, пустой огромный зал крематория на Донском, солнечные лучи, падающие откуда-то сверху. Так странно было видеть его неподвижным, смотреть на его красивые руки — руки художника и поэта, — бережно уложенные на груди. У гроба, сутулясь, стояли Лиля Юрьевна Брик, Василий Абгарыч Катанян, читал стихи о будетлянах Николай Глазков, печально молчали Андрей Вознесенский и Евгений Храмов, сиротливо грудились соседи по квартире. И цветы, много цветов, больше, чем людей. Вспоминались слова Ильи Эренбурга: „Дорогой Кручёных! Для нас, Ваших сверстников, Ваше имя связано с молодостью нашего искусства. Эту молодость Вы пронесли через многие испытания…” Вместе с Алексеем Кручёных мы хоронили молодость века.
А недавно, разбирая старые бумаги, я нашла листок, весь исписанный неразборчивым почерком Алексея Кручёных, а среди карандашных набросков перепечатанное и выправленное автором стихотворение, написанное в январе 1960 года:
Кручёных всегда был и останется звонкоголосым звучарём русской поэзии XX века.
Я не встречал человека, который так беззаветно любил бы чужие стихи. Артист, инструмент вкуса, нюха, он, как сухая нервная борзая, за версту чуял строку — так он цепко оценил В. Соснору и Ю. Мориц. Его чтили Маяковский и Мандельштам. Пастернак был его пламенной любовью. Я застал, когда они уже давно разминулись. Как тяжелы размолвки между художниками! Асеев всегда влюблённо и ревниво выведывал — как там „ваш Пастернак”? Тот же говорил о нём отстранённо — „даже у Асеева и то последняя вещь холодновата”. Как-то я принёс ему книгу Асеева, он вернул мне её не читая.
Асеев — катализатор атмосферы, пузырьки в шампанском поэзии. „Вас, оказывается, величают Андрей Андреевич? Здорово как! Мы все выбивали дубль. Маяковский — Владим Владимыч, я — Николай Николаевич, Бурлюк — Давид Давидыч, Каменский — Василий Васильевич, Кручёных…” — „А Борис Леонидович?” — „Исключение лишь подтверждает правило”.
Асеев придумал мне кличку — Важнощенский, подарил стихи: „Ваша гитара — гитана, Андрюша”, в тяжёлое время спас статьёй «Как быть с Вознесенским?», направленной против манеры критиков “читать в мыслях”. Он рыцарски отражал в газетах нападки на молодых скульпторов, живописцев. В своей панораме «Маяковский начинается» он назвал в большом кругу рядом с именами Маяковского, Хлебникова, Пастернака имя Алексея Кручёных.
Тут в моей рукописи запахло мышами.
Острый носик, дернувшись, заглядывает в мою рукопись. Пастернак остерегал от знакомства с ним. Он появился сразу же после первой моей газетной публикации.
Он был старьевщиком литературы.
Звали его Лексей Елисеич, Кручка, но больше подошло бы ему — Курчонок.
Кожа щёк его была детская, в пупырышках, всегда поросшая седой щетиной, растущей запущенными клочьями, как у плохо опалённого цыплёнка. Роста он был дрянного. Одевался в отрепья. Плюшкин бы рядом с ним выглядел завсегдатаем модных салонов. Носик его вечно что-то вынюхивал, вышныривал — ну не рукописью, так фотографией какой разжиться. Казалось, он существовал всегда — даже не пузырь земли, нет, плесень времени, оборотень коммунальных свар, упыриных шорохов, паутинных углов. Вы думали — это слой пыли, а он, оказывается, уже час сидит в углу.
Жил он на Кировской в маленькой кладовке. Пахло мышью. Света не было. Единственное окно было до потолка завалено, загажено — рухлядью, тюками, недоеденными консервными банками, вековой пылью, куда он, как белка грибы и ягоды, прятал свои сокровища — книжный антиквариат и списки. Бывало, к примеру, спросишь: „Алексей Елисеич, нет ли у вас первого издания «Вёрст»?” — „Отвернитесь”, — буркнет. И в пыльное стекло шкафа, словно в зеркало, ты видишь, как он ловко, помолодев, вытаскивает из-под траченного молью пальто драгоценную брошюрку. Брал он копейки. Может, он уже был безумен. Он таскал книги. Его приход считался дурной приметой.
Чтобы жить долго, выходил на улицу, наполнив рот тёплым чаем и мочёной булкой. Молчал, пока чай остывал, или мычал что-то через нос, прыгая по лужам. Скупал всё. Впрок. Клеил в альбомы и продавал в архив. Даже у меня ухитрился продать черновики, хотя я и не был музейного возраста. Гордился, когда в словаре встречалось слово Заумник.
Он продавал рукописи Хлебникова. Долго расправляя их на столе, разглаживал, как закройщик. „На сколько вам?” — деловито спрашивал. „На три червонца”. И быстро, как продавщик ткани в магазине, отмерив, отхватывал ножницами кусок рукописи — ровно на тридцать рублей.
В своё время он был Рембо российского футуризма. Создатель заумного языка, автор «Дыр бул щыл», он внезапно бросил писать вообще, не сумев или не желая приспособиться к наступившей поре классицизма. Когда-то и Рембо в том же возрасте так же вдруг бросил поэзию и стал торговцем. У Кручёных были строки:
Образования он был отменного, страницами наизусть мог говорить из Гоголя, этого заповедного кладезя футуристов.
Как замшелый дух, вкрадчивый упырь, он тишайше проникал в вашу квартиру. Бабушка подозрительно поджимала губы. Он слезился, попрошайничал и вдруг, если соблаговолит, вдруг верещал вам свою «Весну с угощеньицем». Вещь эта, вся речь её с редкими для русского языка звуками х, щ, ю, „была отмечена весною, когда в уродстве бродит красота”.
Но сначала он, понятно, отнекивается, ворчит, придуряется, хрюкает, притворяшка, трёт зачем-то глаза платком допотопной девственности, похожим на промасленные концы, которыми водители протирают двигатель.
Но вот взгляд протёрт — оказывается, он жемчужно-серый, синий даже! Он напрягается, подпрыгивает, как пушкинский петушок, приставляет ладонь ребром к губам, как петушиный гребешок, напрягается ладошка, и начинает. Голос у него открывается высокий, с таким неземным чистым тоном, к которому тщетно стремятся солисты теперешних поп-ансамблей.
„Ю-юйца!” — зачинает он, у вас слюнки текут, вы видите эти, как юла, крутящиеся на скатерти крашеные пасхальные яйца.
„Хлюстра”, — прохрюкает он вслед, подражая скользкому звону хрусталя. „Зухрр” — не унимается зазывала, и у вас тянет во рту, хрупает от засахаренной хурмы, орехов, зелёного рахат-лукума и прочих сладостей Востока, но главное — впереди. Голосом высочайшей муки и сладострастия, изнемогая, становясь на цыпочки и сложив губы как для свиста и поцелуя, он произносит на тончайшей бриллиантовой ноте: „Мизюнь, мизюнь!..” Всё в этом мизюнь — и юные барышни с оттопыренным мизинчиком, церемонно берущие изюм из изящных вазочек, и обольстительная весенняя мелодия Мизгиря и Снегурочки, и, наконец, та самая щемящая нота российской души и жизни, нота тяги, утраченных иллюзий, что отозвалась в Лике Мизиновой и в «Доме с мезонином», — этот всей несбывшейся жизнью выдохнутый зов: „Мисюсь, где ты?”
Он замирает, не отнимая ладони от губ, как бы ожидая отзыва юности своей, — стройный, вновь сероглазый принц, вновь утренний рожок российского футуризма — Алексей Елисеевич Кручёных.
Может быть, он стал барыгой, воришкой, спекулянтом. Но одного он не продал — своей ноты в поэзии. Он просто перестал писать. Поэзия дружила лишь с его юной порой. С ней одной он остался чист и честен.
Мизюнь, где ты?
Дырбулщыл Кручёных до сего времени ещё является “классическим образцом” заумной поэзии, строящейся “по логике эмоций”. Если гениальность Велимира Хлебникова в какой-то мере признана, то Кручёных и поныне остаётся предметом насмешек. Борис Леонидович Пастернак, отмечавший двойственность мира Кручёных, писал:
Всё это я узнал потом; а пока имена Бурлюка, Кручёных, Зданевича были для нас, студентов, далёкой историей. Разве мог кто-нибудь из нас предположить, что люди эти живы, и во второй половине XX века с ними можно было встретиться, поговорить?
Моё знакомство с Алексеем Елисеевичем состоялось в конце пятидесятых годов. Маленький, подвижной, худой человек, с тюбетейкой на голове и с портфелем под мышкой, в котором всегда есть что-то интересное, чаще всего какая-нибудь редкая книга, с визгливым голосом, говорящий с украинским акцентом — таким я впервые увидел Кручёных. Таким он и остался в моей памяти.
Он был верен своему прошлому. Прошлое сказывалось во всём — в быту, в воспоминаниях, в сборе книг, рукописей. Некоторые судили об этом поверхностно, недоумевали, — он досадовал, но никогда не оправдывался и привычек своих не менял. Даже от книг Кручёных, которые он дарил знакомым (в двадцатые годы он выпускал их в несметном количестве), веяло атмосферой тех лет. На одной такой книге, точнее брошюре — или, как значилось на титульном листе, продукции «Гибель Есенина», подаренной мне при первой встрече, он сделал надпись: Вячеславу Нечаеву. Здесь есть кое-что верное против Есенинщины. А. Кручёных. Москва. 1958 г. Другую свою книгу, «Чорная тайна Есенина», Кручёных надписал мне так: Вячеславу Нечаеву — Пусть послужит эта книжка Вам и Вашим друзьям предупреждением — sos! — о белой горячке у Есенина! 1926–1961 гг. А. Кручёных. Февраль 1961 г. Москва.
Он ни от чего не отрекался. Он радовался, когда его имя упоминали: стало быть, не забыли. Он жил этим прошлым, собирая книги и рукописи.
Он всё тащил домой. Его комната напоминала палатку по сбору утиля. Книги, папки лежали прямо на полу, на диване, на окне, на шкафу, на полках. Удивительно, как он мог находить во всём этом хаосе то или иное, что ему хотелось показать. Впоследствии, с помощью хозяина, я уже сам мог хорошо ориентироваться в этом беспорядке. Под кроватью стояла коробка с рукописями и фотографиями М.И. Цветаевой; в шкафу лежали папки с материалами А.А. Ахматовой и Б.Л. Пастернака; под столом находился большой баул, в котором хранились номерные издания футуристов; ближе к окну, на диване, лежали связки документов Ю.К. Олеши и т.д. Лишь у самой двери не было ничего навалено — и только потому, что в противном случае нельзя было бы попасть в комнату. Слева в углу стояла железная койка, наспех застланная застиранным одеялом. Над кроватью висела работа известного польского художника Сигизмунда Валишевского, друга Кручёных по Тифлису. Прямо на окне, вместо занавесок, — такого же неопределённого цвета тряпки; днём некоторые из них откидываются, чтобы можно было открыть форточку. Сразу же от кровати и до окна — горой книги и папки, связанные стопками и порознь. Вершина этой горы — в середине комнаты: здесь стоит высокая этажерка, вся заваленная книгами и сверху накрытая цинковым корытом. К этажерке можно только подползти по книгам. Из этой горы торчит краешек стола, покрытый пожелтевшими газетами. Здесь — область рахат-лукума, коробки медовых пряников, пачки сахара (именуемого хозяином цукром), двух кружек и лекарств.
Обычно у этого места мы садимся друг против друга и начинаем чаевничать. От чая я отказываюсь и, чтобы не обидеть хозяина, угощаюсь пряниками. Кручёных опускает пряники в кружку, заливает их кипятком и начинает есть. Чудачествам его не бывает конца. То в кипящую воду бросит творожный сырок — и только минут через пять начинает его есть. То застаёшь за стиркой белья: в маленькой кастрюле кипятит бельё, сверху которого лежит кусок мыла. Кто-то из женщин, навещавших его, предложил убраться в комнате. В ответ Кручёных невнятно пробормотал что-то, но не дал даже пыль стереть. Думается, эпатировать во всём было главным в его жизни, жизни футуриста.
Обычно и своему внешнему виду Кручёных не придавал никакого значения. Как-то его пригласили поделиться воспоминаниями в Центральный государственный архив литературы и искусства (ЦГАЛИ). Он был польщён, пригласил на своё выступление Н. Асеева. Приехали за ним на машине. Алексей Елисеевич так и поехал в своей нижней рубашке, которую прикрыл тёплым шарфом. Его речь записали на магнитофонную плёнку, а потом сразу воспроизвели — у старика на глазах появились слёзы.
Тогда, в архиве, я впервые услышал чтение Кручёных. Он блестяще читал свои произведения. У него были хорошие голосовые данные, совершенное владение интонациями, паузами. Вот вы слышите кусок какого-то разговора, вот топот гогочущих родственников, вот поёт муэдзин:
Позже я прочёл у Пастернака такое описание чтения Кручёных своих стихов:
К этим словам Пастернака трудно что-либо добавить. Думается, что таких справедливых слов, признания его труда, Кручёных никогда потом не слышал и не мог рассчитывать на похвалы и цветы.
Вспоминается такой случай. Весной 1966 года в Центральном доме литераторов с большими трудностями был организован юбилейный вечер, посвящённый восьмидесятилетию Кручёных. На крошечной сцене Малого зала усаживается президиум. Появляется Кручёных со своим знаменитым портфелем под мышкой. Вдруг он расстёгивает портфель, достаёт букетик цветов и ставит его в кувшин с водой со словами: „Разве кто-нибудь из вас догадается...” Правда, потом, выступая с приветственным словом, молодая сотрудница ЦГАЛИ преподнесла ему букет красивых гвоздик, заявив ему, что такие букеты цветов он получал в прошлом, когда выступал на эстраде с Маяковским, Хлебниковым, он получает и сейчас в такой торжественный день.
Живя своим прошлым, Кручёных не имел склонности разглагольствовать о нём. Вероятно, поэтому он не оставил мемуаров.4![]()
Вообще о Маяковском он говорил не очень охотно: то ли никак не мог привыкнуть к его посмертной славе, то ли боялся о чём-то проговориться.
Кручёных рассказывал, что 17 августа 1921 года он приехал в Москву из Баку (в Закавказье он пробыл с декабря 1915 года до середины августа 1921 года) и в тот же день, вечером, встретился с Маяковским в Доме печати на выступлении А.В. Луначарского. На следующий день Кручёных посетил квартиру Бриков в Водопьянном переулке. Тогда Маяковский и подарил ему книгу «150 000 000» с надписью. Книга теперь хранится в Библиотеке-музее В.В. Маяковского. Алексей Елисеевич не расставался с этой книгой и на полях её делал разного рода пометы, касающиеся автора. Например, Кручёных записал несколько разговоров Маяковского с аудиторией.
На книге была записана и реплика поэта о Мариенгофе: „Мариенгоф очень занят. Он цилиндр носит”.
Кручёных всегда отмечал находчивость, даже самоуверенность Маяковского, его ударный голос, агитаторскую складку. Он считал, что все эти качества помогали Маяковскому владеть аудиторией.
Как-то разговор зашёл о Давиде Бурлюке.
— Бурлюк сделал много для Маяковского. Он хорошо знал французский язык. Читал Маяковскому французских импрессионистов. — И категорично, словно боясь, что я могу возразить, добавил: — Первые два тома Маяковского — это же импрессионистические стихи! Посмотрите.
В другой раз — об азбуке Маяковского:
— Знайте, азбука Маяковского написана по дореволюционной азбуке. Была такая, вроде порнографической. Он знал её наизусть.
На глаза мне попались «Сатиры» Саши Чёрного в издании «Шиповника». Я вопросительно взглянул на Кручёных, так как знал, что есть несколько талантливых поэтов, книг которых он не держал у себя дома. Так было, например, с книгами Н.С. Гумилёва. В ответ услышал:
— Маяковский знал наизусть многое из Саши Чёрного.
Я готовил публикацию неизвестного выступления Маяковского для так и не изданного тома «Литературного наследства». Маяковский упоминал о брошюре Кручёных против Есенина. Показал это выступление Алексею Елисеевичу. Неожиданно Кручёных разговорился:
Мою просьбу уточнить, что тут, Кручёных оставил без внимания, а вскоре пришёл Н.И. Харджиев за какими-то материалами по Мандельштаму.6![]()
Пожалуй, с наибольшим удовольствием Кручёных вёл разговоры о языке.
К.Г. Паустовский печатал свои воспоминания в «Октябре». Неточно процитировал Пушкина. Кручёных сразу написал ему письмо. Он никак не мог успокоиться: „Как это можно Пушкина переделывать на свой лад?” Спустя какое-то время в «Литературной газете» было напечатано письмо М. Рыльского, где он указывал на эту неточность. Константин Георгиевич в ответном письме объяснил, что эти строки поэта так запомнились ему, говоря об индивидуальном восприятии. Кручёных без конца повторял: „Ведь это Пушкин! У него всё на месте, и выдумывать за него не надо. Пушкина надо знать!”7![]()
С большим удовольствием Кручёных листал книгу Ашукиных «Крылатые слова». Однажды я был встречен вопросом: „Вы знаете, почему набирают курсивом строку у Грибоедова: И дым отечества нам сладок и приятен? Потому что это фраза Державина: Отечества и дым нам сладок и приятен”. И, показывая книгу, добавил: „У вас есть эта книга? Очень полезная и интересная”.
В конце 1964 или начале 1965 года в «Литературной газете» была опубликована статья Н. Грибачёва, в которой упоминалось стихотворение Кручёных Дырбулщыл. Я не помню, что там писалось об этом стихотворении Кручёных, только он протянул мне газету и сказал:
О словесных турнирах поэтов Кручёных рассказывал с жаром. Недаром он выпустил на стеклографе несколько брошюр под названием «Турнир поэтов». С большим удовольствием Алексей Елисеевич поведал мне о следующем случае. Бенедикт Лившиц, когда они шли с Хлебниковым, показал какую-то звезду и назвал её. Тогда Хлебников стал называть все звёзды по-славянски. Лившиц был поражён. Кручёных рассказывал так, как будто не Хлебников, а он сам назвал все звёзды.
Кручёных поведал мне о своём вступлении в Союз писателей. Было это в 1942 году. На одном из отчётов Ильи Эренбурга в Доме литераторов Кручёных встретился с Ильёй Григорьевичем. Разговорились. Эренбург, узнав, что Кручёных еле-еле сводит концы с концами, и всё время с первого дня войны находится в Москве, написал ему рекомендацию, по которой Кручёных и был принят в Союз писателей.8![]()
Будет справедливо, если я отмечу ещё одну особенность Алексея Елисеевича — постигать сегодняшний день через прошлое. Как бы с позиций своего прошлого Кручёных интересовался и молодой поэзией. Из многих имён поэтов, чьи книги появились в конце пятидесятых – начале шестидесятых годов, он выделял особо Николая Глазкова, Андрея Вознесенского, Виктора Соснору. И они отвечали ему взаимностью.
В качестве примера приведу одну надпись А. Вознесенского на его книге «Ахиллесово сердце». Эта книга попала мне в руки случайно, уже после смерти Кручёных. Вот текст надписи:
Однажды я попросил Кручёных прочесть мне свои стихи. Эти стихи были с помощью типографских ухищрений набраны тремя разными размерами шрифтов. Вначале надо было читать крупный шрифт, затем — средний и, наконец, — мелкий. Такие стихи назывались “симфоническими”. Мастером писать подобные стихи считался Колау Чернявский. На мою просьбу Алексей Елисеевич ответил отказом, заявив при этом, что к чтению подобных стихов надо соответственно подготовиться, да он и забыл, как их надо читать.
Разговор перешёл на стихи Вознесенского. В его поэме «Оза» Алексей Елисеевич обратил внимание на часто повторяющуюся строку: А на фига?! и на образ чёрного ворона, заметив, что это «Ворон» Эдгара По. А стихотворение «Сибирские бани» вызвало у Кручёных две строчки:
Особо хочу упомянуть о страсти Кручёных к сбору материалов по истории русской и советской литературы. Он собирал по крупицам рукописи, записки, фотографии, рисунки, письма, документы (всё, что давали) — ибо ценностью это тогда не считалось. Не помню точно чья, на одном листке была следующая дарственная надпись: Кручу — в кучу!. Только спустя какое-то время собрание Кручёных стало богатством. Многие материалы от Кручёных поступали в Литературный музей, Библиотеку-музей В.В. Маяковского, Центральный государственный архив литературы и искусства. Но это — особый разговор. Даже моему личному собранию документов по истории театра и литературы Кручёных заложил основу. То подарит книгу с автографом Александра Блока, то оттиск с автографом Анны Ахматовой, то биографию Марины Цветаевой.
Однажды, когда мне пришлось расчищать проход к окну для рабочих, которые меняли отопительную систему, Кручёных подарил мне сразу две книги. Одна из них была «Рассказы» Артёма Весёлого. На ней была дарственная надпись:
Вот передо мной его фотографии, которые он дарил, и которые мне удалось снять. Но, глядя на них, я вспоминаю его рассказы о Херсоне и альбомах «Весь Херсон в карикатурах», о его работе на строительстве Эрзерумской железной дороги,7![]()
Таким был Алексей Елисеевич Кручёных, о котором до сих пор пишут как о варваре, „отрицателе” русского языка. Этот крайне левый футурист прекрасно знал и всем своим существом любил русскую литературу. К сожалению, не всё, что он сделал как поэт и как критик, лингвист — вернее, публицист — равноценно. Мне кажется, что собранные воедино, его книги теряют жар. Так, отдельными маленькими брошюрками, они и будут существовать.
‹1980-е, Москва›
Мне знакомы они, многие, изгнавшие себя из общества, живущие у него на отлёте, в стороне, молчаливо не признающие его пути. Правда, они пользуются услугами МКХ, ездят на трамваях и автобусах, подчиняются внешним правилам общественного распорядка, — но этим и кончается их связь с общественностью. Дальше идёт расчёт на собственный нюх, когти, зубы, на уменье пробраться незаметно, пролезть в щель не заделанного палисада, обойти внушающую тревогу примету. Я пишу о них не из злобы к ним, а из удивления, что в обществе, как бактерии в организме, живут и разлагают его частицы, ему враждебные, ему вредоносные. Живут, неся на себе почти невероятные черты противообщественных задатков, фантастические особенности отрицания этого общества.
Я попытаюсь рассказать об одном из них, талантливейшем человеке, который поражает меня обилием своих звериных биологических черт, которого я почти люблю за редкость и неповторимость их проявлений. Их нигде нельзя найти так густо собранными в комок, как в нём. Профессию его не назовёшь иначе, как угадывание выгодных моментов в жизни, как ни странно это звучит.
По специальности он певец, хотя давно бросил это занятие. Он смакует всё, что даёт ему жизнь. Кажется, он всё берёт в рот: деньги, славу, любовь, дружбу, зрительные и слуховые впечатления и, обсосав, выплёвывает их как бы для того, чтобы не испортить тонкости вкусовых ощущений. Он всё как будто пробует на язык: горячо это или холодно, кисло или горько. Но есть предметы для него безвкусные: общество, организованность, солидарность: они хранят для него деревянный вкус. Он не протестует и не осуждает. Но он не признаёт это съедобным и питательным для себя. Он не порвал со старым строем и не поверил в возможность существования нового. И остался одиночкой, не верящим ни во что, кроме собственных глаз, собственных рук, собственного языка. Под сомнением остаётся — верит ли он вообще в самостоятельное существование окружающих? Может быть, они — как это ни странно — кажутся ему, как и зверю, только препятствием или вспомоществованием для утоления его аппетитов. По крайней мере, множество мелочей говорит за это.
Раз его застали на лестнице дома неподвижно стоящим над разбитым яйцом. Встретивший его был художник. Когда этот художник спросил, что приковало его к месту, тот, оживившись, рассказал ему, что нёс яички к завтраку и одно уронил и разбил. И здесь же предложил художнику, которому для растирания красок требуется ведь яичный желток, купить у него это разбитое яйцо за полцены. „Для вас это удача, — говорил он, — а мне хотя бы наполовину покрыть убыток”.
Но он вовсе не так скуп, как может показаться из этого примера. Он человек, подверженный страстям и искушениям. Но и страсти и искушения свои он хочет использовать до конца, руководясь ими в той мере, в какой они, подчиняясь ему, ублажают его инстинкты. Он хочет контролировать их в миг зарождения, хочет видеть немедленный результат их действия. Он обращает их в дрессированных ищеек, помогающих пробираться сквозь чащу. И, если дрессировка не доведена до конца, он, не смущаясь, переучивает свою страстишку здесь же, на людях, приучая её нести поноску только в его руки. Однажды он играл в карты. Ставки были мелкие, дешёвые: денег у всех было мало. Проиграв бывшую у него налицо мелочь, он предложил пустить в оборот какую-то подозрительную монету, называемую турецкой лирой, к тому же продырявленную и долго звеневшую, должно быть, на чьём-нибудь ожерелье. А может быть, это был просто жетон давно прошедшего спортивного состязания. Но его уважили, приняв её больше как меновой знак за небольшую плату, скажем, в рубль ценой. С этой монетой он отыгрался и обыграл другого партнёра. Когда обыгранный хотел возвратить ему жетон по такой же цене, по какой он был принят в игру, Всеядный затревожился, засуетился и отказался принять эту монету.
— Нет, нет! — фыркал он обиженно и возмущённо. — Я её не могу принять за рубль!
— Да как же у вас её приняли?! — укоряли его.
— Ваша воля, ваша воля, а я не согласен. Меня не спросили. Я беру её только за двугривенный!
Тогда мне стало страшно, что он, всучив мне себя так же за рубль, примет обратно только за двугривенный. И я, относившийся к нему как к обычному человеку, хотя и с некоторыми странностями, — стал рассматривать его с тех пор как зверя, мелкого, хищного, которому нельзя доверить своей мысли, своей воли, своего ключа от жизни, потому что он проглотит его на лету, не разобрав, не посмотрев, на что он пригоден, кроме глотательной судороги.
Он живёт высоко, на пятом этаже, одиночкой выходя в мир на добычу, отделённый от этого мира тысячью примет, заклинаний, привычек.
Он носит чужие ботинки, я уверен, не только от скупости, но и с тем расчётом, чтобы оставлять после себя оттиск чужих следов.
Он ест, как кошка, придавливая еду лапой к земле, жмурясь и урча; причём, после сладкого может есть мясо, если оно осталось на столе недоеденным.
В этом — смесь мужицкой бережливости со странной жадностью одинокого человека, не упускающего своей животной выгоды, пользы для уплотнения своего тела, хотя бы вопреки уже наступившей сытости — на запас, впрок, на всякий случай.
Женщина, близкая ему, сидела в одной с ним компании. Всеядный заторопился уходить, но ему не хотелось показать остальным, что она уйдёт вместе с ним. И вот он несколько раз напоминал ей о позднем времени, об уходящих трамваях. Наконец, она попрощалась и вышла. Он продолжал ещё сидеть около часа. Поздний гость, поднимавшийся по чёрной холодной, неосвещённой лестнице, ведшей в эту квартиру, наткнулся на зябкую, ожидающую фигуру, жмущуюся в одном из пролётов; осветив её спичкой, он узнал в ней женщину, близкую Всеядному. Она ожидала час на холодной лестнице, пока её повелитель не найдёт срок времени между её и его прощанием достаточно убедительным для того, чтобы его не заподозрили в общем уходе с ней.
Он пьёт каждый день жирные, сладкие сливки, мешая их с холодной кипячёной водой. Он пьёт сладкое вино с горячим чаем. Какой ещё мешанины не устраивает он ради пользы и выгоды?! Приходя в дом, он снимает жилетку, чтобы ему не было жарко. Галоши носит в портфеле на случай дождя. Подходя к кинематографу, он их также прячет туда же, чтобы сэкономить на вешалке, тщательно обёрнутыми в газету. Так живёт он, занятый микроскопической технологией своего быта, отпрыгивая и снова приближаясь к своей маленькой выгоде, не связанный с обществом ничем, кроме цвета своего пиджака. И вместе с тем он член этого общества, он числится в квартирных списках жильцов, он снимает дачу и впрыгивает на ходу в трамвай, он почти тень, почти дух, почти ничто по фантастике своего существования.
Но главное его занятие — присосеживаться к какой-нибудь компании. Делается это так. Он садится на боковой край стула — без униженности и подхалимства, но так, как будто он присел на минутку, будто он готов сорваться и улететь. Он может так просидеть и час, и два, всё ещё не зная — оставаться ли ему здесь, есть ли в этом выгода, или уйти, почуяв бесполезность сидения. Будет ли это компания литераторов, убийц или революционеров — ему безразлично. Факт уместности нахождения в этой компании расценивается им с точки зрения выгодности пребывания в этой компании. Он настолько третирует все человеческие занятия, кроме ношения галош в портфеле, что ему безразличен состав присутствующих, кроме того, что — могут ли быть они ему полезны. Он присосеживается к ним ровно на столько времени, чтобы улучить момент ощущения пользы или, наоборот, невыгодности своего пребывания здесь, хотя бы эта польза и заключалась в лишнем стакане выпитого молока. Конечно, он избегает компании противозаконной, так как в ней оставаться не выгодно. Но на всякую компанию он смотрит так, как Чичиков смотрел на глупую Коробочку, способную послужить ему на пользу.
Фантастика всех наиболее изощрённых в ней авторов — Гоголя, Шамиссо, Гофмана, По — стоит за его плечами. Он собирает подписи, наброски, черновики, фотографии всех мало-мальски известных режиссёров, наклеивая их, составляя из них альбомы, собирая огромный архив отбросов, также присосеживаясь к каждой отдельной славе с краю стула, готовый ежеминутно сняться с места. Он владеет этим архивом, как скупой рыцарь своими сундуками, передвигает альбомы, как полководец батальоны, уверенный в том, что владение мёртвыми душами даст ему когда-нибудь выгоду. Таков этот человек-выдумка, человек-старьевщик, копающийся в связках рецензий, оборванных записок, не отосланных писем, как шакал на свалке скелетов. Таков он, герой практических никчемностей, крохотных выгод, присаживающийся, как крупная муха, на запах сладкой прели, на отброс, на липкую лужу крови.
Он живёт среди нас абсолютно законный и реальный, этот призрак больной фантазии былого; он идёт падающими шагами мимо наших окон, малоопасный по своей природе, привыкший не рисковать, странный в своей уверенности, что весь мир создан для его потребления. Почти фантом, почти призрак в своей недостоверности; почти неотличимый, неуловимый в своей обычности и похожести с первого взгляда на тысячи других людей. Вот откуда пошло в народе поверье о вурдалаках и упырях. Очевидно, типические свойства его наблюдались опытом множеств и раньше, сгущаясь и уплотняясь в достоверную легенду, в ходячий образ этих красных сосущих, причмокивающих губ, этих судорожных взмахов цепких пальцев, этой падающей походки расслабленного на вид зверя, берегущего свои силы для прыжка, для удара, для нападения!
1929
В третьем номере мы дали ряд статей, стихов и рисунков. Перед этим нашей группой был выпущен второй сборник «Садок судей» (Хлебников, Гуро, Маяковский, Кручёных, Б. Лившиц, Д. Бурлюк, Н. Бурлюк, Е. Низен, рисунки Ларионова, Гончаровой, В. и Д. Бурлюков, Е. Гуро).
Мы настаивали на приглашении в журнал «Союз молодёжи» левых художников-москвичей, но эклектики во главе со Шлейфером и Спандиковым протестовали, и Жевержеев их поддержал.
Два публичных диспута, устроенные «Союзом молодёжи» и 24 марта в Троицком театре, особенно интересны тем, что вскрывали суть нашего направления.
На первом диспуте «О современной живописи» — я председательствовал. Выступили с докладами Давид Бурлюк и Казимир Малевич.
Малевич доказывал, что натурализм и фотография — одно и то же.
Со словами: „Вот что делает Серов...”, Малевич проектирует на экран обыкновенную картинку из модного журнала — «Женщина в шляпе и манто».
Поднялся скандал, пришлось объявить перерыв, но Малевичу так и не дали договорить.
На втором диспуте «О новейшей русской литературе» в качестве докладчика выступали Давид и Николай Бурлюки, Кручёных и Маяковский. Сначала всё шло довольно гладко, но когда выступил Давид Бурлюк и сказал, что Толстой — „светская сплетница”, поднялся страшный шум. С какой-то старушкой случился обморок, и её унесли. Тогда выступил Кручёных и заявил, что он расскажет один поучительный случай:
— В английском парламенте выступил член собрания со словами: „Солнце восходит с Запада” (смех в зале). Этому члену парламента не дали договорить, и он ушёл с трибуны. На следующий день он явился снова с теми же словами, и его опять лишили слова, но вот, наконец, решили выслушать, и он начал и докончил: „Солнце восходит с Запада, так сказал один дурак”.
Тут поднялась буря аплодисментов, и нас выслушали, не перебивая. Но прения не могли состояться из-за позднего времени.
На этом диспуте Николай Бурлюк должен был прочесть стихотворение Елены Гуро, характеризующее творческую работу всей нашей группы:
Я поехал к Бурлюкам. Они уже ложились спать, и мой встревоженный вид их очень испугал. Я с горечью обратился к ним, требуя обьяснения их не товарищескому поступку. Давида Бурлюка забывчивость брата очень взволновала. Николай был страшно смущён и ничего не мог сказать в своё оправдание. ‹...›
Объединённый комитет «Союза молодёжи» и «Гилеи» решил организовать футуристический театр «Будетлянин».
Летом 1913 г. мы решили собраться в Усикирко, чтобы наметить дальнейшую совместную работу.
Приехали Малевич и Кручёных, Хлебников не приехал. Он уронил кошелёк в купальне и таким образом остался без денег на дорогу. Ловля кошелька сеткой и крючками была безуспешной. В результате я получил из Астрахани его сообщение о том, что „поездка откладывается до осени”.
Мы составили план действия, втроём написали манифест и стали усиленно работать над оперой «Победа над солнцем». Я писал к пьесе Кручёных музыку, Малевич рисовал эскизы декораций и костюмов. Мы закончили работу в Петербурге к декабрю, когда и состоялись постановки «Победы над солнцем» и трагедии «Владимир Маяковский» (2, 3, 4 и 5 декабря 1913 г.).
Эти спектакли показали, как мало принимали и публика и критика то новое, о котором мы так много говорили на диспутах и в наших изданиях. В «Победе над солнцем» мы указывали на выдохшийся эстетизм искусства.
Два будетлянских силача поют:
Цензура почему-то не обратила внимания на бунтарские слова оперы.
За заумными словами Забияки скрыт призыв к рабочим — не оставляй оружия!
Никто из поэтов не поражал меня своим творчеством так непосредственно, как Кручёных. Мне и Малевичу были близки его идеи, запрятанные в словотворческие формы.
Мы часто говорили при какой-либо неудаче: „Пахнет дождевым провалом” (из «Победы над солнцем»).
Когда я писал музыку на его слова, там, где потревоженный толстяк оглядывает „10-й стран” и не понимает нового пространства, мне с убедительной ясностью представлялась новая страна новых возможностей. Мне казалось, я вижу и слышу пласты правильно ритмующихся в бесконечности масс. Думаю, что мне удалось выразить это в музыке.
Есть у меня связанное с Кручёных неоконченное дело: после «Победы над солнцем» он начал работать над текстом другой оперы — «Побеждённая война». Но мне удалось сделать только черновой набросок музыки к первому акту. Ряд замечательных набросков (карандашом и углем) сделал Малевич.
Я помню слова Кручёных, обращённые ко мне на одной из репетиций:
— Дорогой Матюшин, объясните студентам-исполнителям суть непонятных слов.
Дело в том, что студенты, исполнявшие роли, и хор просили объяснить им содержание оперы. За словесными сдвигами они не видели смысла и не хотели исполнять, не понимая. Я сказал приблизительно следующее:
— Мы не всегда замечаем перемены в языке, живя в своём времени. Язык же и слова постоянно меняются. Если культура народа велика и активна, то она отбрасывает отжившие слова и создаёт новые слова и сочетания.
Далее я прочёл стихотворение величайшего русского поэта XVIII века Державина и сказал:
— Я думаю, что стихотворение Державина вам так же непонятно, как и наша опера. Я нарочно ставлю вас между двумя эпохами, новой и старой, чтобы убедились, как сильно меняется способ выражения. Но условиться о чём-либо — значит понять. Читая Ломоносова, Хераскова, Державина, вы должны с ними условиться о понимании, так же точно и здесь вы должны понять, что такое слово.
Читаю любимые мною стихи Кручёных и объясняю пропуски:
| Дверь | Удар |
| свежие маки | нож |
| расцелую | ток |
| пышет | посинело |
| закат | живи |
| мальчик | живёшь |
| умираешь | |
| собачка | |
| поэт | |
| младенчество лет |
— Вот один пример: недавно я встретил старика, очень культурного по своему времени, и он начал рассказывать мне, как он забыл калоши. Он начал о травосеянии на юге и том, какие платья носили в то время, когда ещё не было калош, а цены на масло были очень низкие.
Это вызвало шумные одобрения слушателей.
Я объяснил, что опера имеет глубокое внутреннее содержание, что Нерон и Калигула в одном лице — фигура вечного эстета, не видящего “живое”, а ищущего везде “красивое” (искусство для искусства), что путешественник по всем векам — это смелый искатель, поэт, художник-прозорливец, и что вся «Победа над солнцем» есть победа над старым романтизмом, над привычным понятием о солнце как “красоте”.
Объяснение со студентами мне удалось вполне. Они мне аплодировали и сделались нашими лучшими помощниками.
Средства на постановку субсидировал издатель «Союза молодёжи» Жевержеев и Фокин, содержатель «Театра миниатюр» на Троицком. Наши первые репетиции в «Театре миниатюр», вероятно, воодушевили наших меценатов. Фокин, прослушав первый акт оперы, весело закричал:
— Нравятся мне эти ребята!
Снят был театр Комиссаржевской на Офицерской. Но наши меценаты не очень раскошелились. Не пожелали достать хороший рояль и с опозданием привезли какую-то старую “кастрюлю”. Хористов наняли из оперетты, очень плохих, и только два исполнителя — тенор и баритон — были приемлемыми.
Репетиций было всего две, наспех, кое-как.
Малевич написал великолепные декорации, изображающие сложные машины. Он же придумал интересный трюк. Чтобы сделать громадными двух будетлянских силачей, он поставил им плечи на уровне рта, головы же в виде шлема из картона — получилось впечатление двух гигантских человеческих фигур.
В день первого спектакля в зрительном зале всё время стоял “страшный скандал”. Зрители резко разделились на сочувствующих и негодующих. Фокин был смущён скандалом и сам из директорской ложи показывал знаки негодования и свистел вместе с негодующими.
Кручёных играл удивительно хорошо две роли: “неприятеля”, дерущегося с самим собой, и “чтеца”. Он же читал пролог, написанный Велимиром Хлебниковым.
Жевержеев был так напуган,что на мою просьбу вернуть Малевичу рисунки костюмов и декораций (не купленные меценатом, он был экономен), отказался наотрез, говоря, что у него нет никаких рисунков и что вообще он с нами никаких дел иметь не желает.
Вскоре произошёл распад общества художников «Союз молодёжи». Четвёртый номер журнала так и не вышел: Жевержеев перестал субсидировать. Удалось только издать пьесу «Победа над солнцем» с кусочками музыки.
Первые шаги в искусстве всегда трудны и тяжелы. Тот, кто видел Малевича с большой деревянной ложкой в петлице, Кручёных с диванной подушечкой на шнуре через шею, Д. Бурлюка с ожерельем на раскрашенном лице, Маяковского в жёлтой кофте, не подозревал, что это пощёчина его вкусу. Его веселье перешло бы в ярость, если б он уразумел, что мы осмеиваем пошлость мещанско-буржуазного быта.
‹Ленинград, 1932–1934›
Помню рассказ Ильи Зданевича об одной реплике Круча на диспуте «Бубнового валета», которая вызвала взрыв аплодисментов. Во время речи Тугендхольда, в паузе, когда докладчик потянулся к графину, Кручёных громко, можно сказать демонстративно и оглушительно зевнул, может быть даже щёлкнул зубами — так собака в жару, полупроснувшись, сглатывает муху.
— Надо уметь! А он умел.
Сделав несколько язвительных замечаний в адрес шепелявого ручного дикаря Бальмонта, которому, конечно, и присниться не могла рыжеволосая луна, он возвысил голос:
— Милостивые государыни и милостивые государи! Надеюсь, вы понимаете — над кем мы издеваемся, говоря о паутине страусовых перьев лунных лучей...
Алексей Елисеевич берёг свой голос и, выкрикнув несколько фраз и периодов, умолкал и садился.
И тогда вставал я. Мне было 15 лет, на мне гимназическая куртка без пуговиц и пояс, повёрнутый бляхой за спину. Я вставал и читал куски, иллюстрирующие «Любовную приключель» — иными словами, цитаты из «Флейты-позвоночника».
— Дальше, — суфлировал мне снизу Кручёных.
Потом к возвышенному поэтическому образу прибавлялись кое-какие бытовые детали, которые передавал или присочинял мой старший друг, неутомимый выдумщик и изобретатель «Фантастического кабачка» Юрий Деген. Он встречался с Маяковским и Лилей в Петербурге в 1917 году в «Привале комедиантов», когда проектировалась там «Женитьба» в декорациях Анненкова (?). Маяковский собирался играть Яичницу и утверждал, что в этой роли главное — артистическое шипение. Если Яичница, — она шипит! Об „ослепительной красавице” Юрий говорил, что у неё на каждом ноготке от лунки шли расходящиеся лучи, как от солнца... Представляете?
Круч кончил свою приключель на самой высокой ноте:
Так не раз выступали мы вместе с Алексеем Елисеевичем в «Фантастическом кабачке» и, конечно, не потому что я прямо со школьной скамьи так уж хорошо читал Маяковского, Блока, или Тютчева: горлу докладчика требовался отдых. В газете «Республика», в хронике «Сегодня вечером», писали: „В вечере примут участие артистка С.Г. Мельникова, В. Катанян...” (иногда даже просто Вася Катанян).
Вообще Круч выступал тогда часто, издавал книжки, пил красное вино, не разбавляя тёплой водой, и хотя знаменитое четверостишие, написанное им в содружестве с Лермонтовым, относится к более позднему времени, у меня оно почему-то упрямо отодвигается к той, во всех отношениях весенней весне.
Да, конечно, и дальше об этом не было речи (может быть, уже по инерции?), но он всё больше и больше выходил из фокуса и дичал.
И хотя он продолжал ещё писать замечательные стихи — и вообще знал, где раки зимуют, — и случались ещё счастливые минуты (узнав, что в новом учебнике русской литературы есть и Кручёных, он хихикал: какой-нибудь балбес получит двойку за то, что не выучит наизусть «Дыр бул щыл»), но, в общем, отходил всё дальше и дальше, и его речь, которая никогда не была пресной, бесформенной, лишённой углов и шипов, не увядала и не расплывалась в болтовню.
Недавно я раскопал у себя плёнку телефонного разговора Лили Юрьевны с Н.Н. Асеевым. Чтобы не уподобиться президенту Никсону, не делаю из неё секрета. После чтения нам обоим стихов, которые Николай Николаевич написал ночью, и ещё после всякой всячины, речь заходит о Круче.
— Он стал совершенной развалиной, — замечает Николай Николаевич. — Он говорит только о том, что он съел, сколько он выпил и куда он ещё пойдёт.
Л.Ю. — У него очень сильный склероз.
Н.Н. — Это я знаю, что склероз... Он теперь стал говорить только о себе, и всё глупости. Как он шёл по улице, кто-то его толкнул, „я обернулся, он хотел мне сказать, а я ему ответил, а он...” и начинается длинный эпизод, который ну ни хера не стоит! Или вчера он хотел принять ванную, ванна перекипела и перелилась, длительный разговор о ванне, которая не перелилась... И вообще ничего не случилось... Я обыкновенно прекращаю такие разговоры, а он на другой перескочит...
Л.Ю. — Грустно!
Москва, 1974
О нём я знал тогда, что он поэт и художник, теоретик зауми — звукосочетаний, не имеющих логической связи, но как бы оправданных субъективной логикой своего возникновения. Поэтому он писал в автобиографии, что “знаменитый” его «Дыр-бул-щыл» „говорят, известнее меня самого”.
Кручёных стал приобретать новую известность со всеми парадоксами, кажущейся противоречивостью, анекдотическими версиями о его привычках, образе жизни, бытовых странностях. Он становился человеком-легендой. Всякое наслоение на черты его личности с годами и десятилетиями всё более увеличивалось, и поэтому пришло время говорить, что было в действительности, отбросив всё вульгаризаторское и наносное.
Алексей Кручёных принадлежал к числу тех писателей, которые начинали в десятые годы, и потому Б. Пастернак в предисловии к его «Календарю» вопрошал:
„Ты из нас” означает, что Борис Леонидович причислял Кручёных если не к своим единомышленникам, то, во всяком случае, к одному поколению. Осип Мандельштам признавал Кручёных „интересным как личность”.
В первые месяцы нашего знакомства Алексей Елисеевич, как бы желая ввести меня в курс совсем недавнего прошлого, с упоением рассказывал о своём выступлении в октябре 1921 года в аудитории Политехнического музея на вечере всех поэтических школ и групп и, в особенности, о состоявшемся в той же аудитории своём литературном вечере, на котором, говоря языком афиши, “экскурсией по Кручёныху” руководил Маяковский.
Творческая деятельность Кручёных в ту пору имела свою кульминацию в 1925 году, когда издательство Всероссийского союза поэтов выпустило шесть его книжек. Он щедро одарил меня ими, а в 1928 году на своей книжке «15 лет русского футуризма», выпущенной тем же издательством, написал: „Гар. Бебутову от раздвоенно-расчетверённого и четвертованного врагами, но, кажись, живого и скромного А. Кручёных. 27/I–28 г.”
Эти строки (в преувеличенной форме) отчасти говорят о тех естественно возникавших трудностях, с которыми сталкивался Кручёных, стараясь укрепиться на своих старых литературных позициях. Между тем, в аннотации к книге «15 лет русского футуризма» редколлегия издательства, оговорив своё несогласие с печатаемым материалом, всё же отметила, что считает „возможным печатание труда под маркой Союза: во-первых — потому, что автор является одним из основоположников и характернейшим выразителем футуризма и, во-вторых — потому, что Кручёных — активный и равноправный товарищ, действительный член Всероссийского Союза Поэтов”.
Активность, отмеченная в этой характеристике, пожалуй, нагляднее всего выразилась в обозначенной в книге цифре: «Продукция № 151». Продукция не издательства, а автора. В дальнейшем Кручёных, продолжая проставлять порядковый номер на своих работах, перешёл, в основном, на авторские издания, печатавшиеся в стеклографии, а затем и машинописные.
Уже после отъезда из Москвы, я получал от него выпуски «Неизданного Хлебникова», «Турнира поэтов», «Живого Маяковского» и других изданий, выходивших в количестве 100–150 экземпляров — нумерованных и именных. Вторая страница одного из выпусков «Турнира» отчасти даёт представление о широком круге знакомств Кручёных. На ней в алфавитном порядке перечислены фамилии тех, кому „будут вручены” экземпляры этого издания. Меня, признаться, удивило, что в числе пятидесяти фамилий была поставлена и моя (после Асеева). Хотя я не входил в «Группу лефовцев» и в «Группу друзей Хлебникова», от имени которых Кручёных издавал свои “тетради”, но вполне разделял их литературные интересы.
В августе 1928 года я со всей искренностью писал Алексею Елисеевичу: „Изумительна ваша энергия, с которой вы издаёте одну книжку за другой. Книгоиздательская работа Ваша в целом — работа творческая, оформление книг обязано Вашему вкусу и Вашей литературной позиции”. Уже полушутя, я продолжал: „Для современности, мне кажется, назревает тема: Кручёных и его книгоиздательская деятельность”. Теперь вполне серьёзно считаю, что такая тема весьма оправдана.
В этом отношении надо учитывать его постоянное безденежье и несовершенство технических средств, которыми он пользовался (в лучшем случае — стеклопечать). Несколько раз я отправлял ему посылками писчую бумагу формата его “тетрадей” и написал в ответ на его благодарность: „Не стоит благодарности — примите в знак привета”.
Вернусь к встречам в Москве. Наши беседы, разговоры чаще всего касались книг. Обычно я видел его с портфелем, туго наполненным и зажатым подмышкой. О, каких только редких и интересных книг, фотографий, рисунков и автографов не было в его портфеле!
Ими его одаривали знакомые писатели и художники, а он не отказывался даже от черновиков и эскизов. Мог разгладить помятый рисунок или подобрать клочёк разорванного письма. Так, он уступил мне конец письма Айседоры Дункан к Сергею Есенину с таким примечанием на отдельном листе: „Ниже прилагаемое письмо от Айседоры Дункан к С. Есенину (она всегда писала ему не собственноручно) получено мною от самого Есенина, оторвавшего и разорвавшего верхнюю часть письма (как особенно интимную?). Было это в конце 1921 г. (или в начале 1922). Что подтверждаю. А. Кручёных. 6/I–28 г.”. Много лет спустя, 12 марта 1960 года, И.И. Шнейдер заверил на обороте отрывка его достоверность.
Всеволод Иванов дарит Алексею Кручёных свою новую книгу с автографом: „Кручёных! Благодарю за принос древностей! «Партизан» и «Бронепоезда» в 1-ом изд.! Очень смешно видеть себя на 10 лет моложе”. А скольким ещё писателям и библиофилам доставлял Кручёных такую радость, зная или угадывая их читательские интересы, вкусы, творческую направленность. Не случайно его в шутку прозвали „начальником автографов писателей СССР”.
Не все писатели, художники, артисты, композиторы, чьи автографы собрал Кручёных, были лично знакомы с ним. Некоторые материалы переходили к нему от третьих лиц — его друзей. Так, в его коллекции оказалась нотная запись Д.Д. Шостаковича. Как удачно заметил Виссарион Саянов, „чтобы описать портфель Кручёных, нужно основать новую натуральную школу”.
Кручёных усиленно пополнял своё собрание фотографиями. В начале 1934 года Алексей Елисеевич прислал мне свою стеклографированную тетрадь «Книги Бориса Пастернака за 20 лет» с такой сопроводительной надписью: „Гарри Бебутову. С Новым годом! Жду 2 групповых фото Б. Пастернака. Газету и портрет получил. Привет!! А.Кручёных. 31/XII–33 г.”. На групповом фото были Пастернак, Корнеев, Гатов, Тихонов, Каверин, Павленко и я. Мы снимались в редакции закавказской литературной газеты «На рубеже Востока», начавшей выходить в декабре 1933 года в связи с подготовкой к первому Всесоюзному съезду писателей (снимок помещён в моей книге «Отражения», 1973). Отдельный портрет Б. Пастернака — рисунок художника В. Кроткова, воспроизведённый в газете вместе с кратким интервью Бориса Леонидовича. Об этом художнике Б. Пастернак писал мне: „‹...› тов. Кротков настоящий рисовальщик и, за вычетом одного отца, сделал меня лучше многих прочих”.
В свою очередь, Кручёных уступил мне редкое фото: С. Есенин и Г. Колобов, опять-таки, со своим примечанием на отдельном листе.
Многое из собираемого Кручёных оседало в задуманных им именных и тематических альбомах, которых насчитывалось несколько десятков. Эти альбомы постоянно пополнялись при участии самих писателей, которым были посвящены. Остальные автографы, снимки, книги из портфеля Кручёных совершали круговорот...
На приобретенном мною у него и хранящемся до сих пор у меня экземпляре редкой книги Кручёных и Алягрова «Заумная гнига» с цветными гравюрами О. Розановой, Алексей Елисеевич сделал пояснительную надпись: „Алягров — это Ром. Якобсон. Издано в 1915 г. Тираж не более 100 экз. А. Кручёных. 6/I–28 г.”
Но не всё удавалось достать и Кручёных. Позже, когда открылась выставка Маяковского «20 лет работы», и я просил выслать мне её каталог, он ответил: „Каталога выставки Маяковского у меня нет”. Каталог был отпечатан в стеклографии и сразу стал редкостью, недоступной даже Алексею Елисеевичу.
Про волшебный портфель Кручёных, как и про него самого, распространялись небылицы. Николай Асеев писал: „Приходя в дом, он снимает жилетку, чтобы ему не было жарко. Калоши носит в портфеле на случай дождя. Подходя к кинематографу, он их также прячет туда же, чтобы сэкономить на вешалке, тщательно обёрнутыми в газету”. Мне кажется, — это пародийный вымысел, хотя Алексей Елисеевич был очень стеснён в средствах и действительно экономил, как только мог. В портфеле его я видел не калоши, а книги и другие материалы, приносящие обладателю портфеля скромный заработок или удовлетворявшие его собирательскую страсть. Одевался он скромно, одежда была, хотя и не отутюжена, но цела, и я поразился, прочитав в одной книге, что он „одевался в отрепья”. И ещё меня удивило, что он „скупал всё. Впрок”. Не на что ему было „скупать”. Как я уже отметил, писатели охотно отдавали ему свои книги, рукописи, даже черновики и щедро одаряли автографами, стихотворными экспромтами... Одних только книг с автографами Б. Пастернака у Кручёных собралось двадцать шесть. Вот две характерные надписи на книгах: „Чудаку Алёше, которого я начинаю робеть после его сегодняшних введений и предисловий. И — главное — отбирания подписей. Б.П.” и „Коллекционеру глупых положений — для полноты. Б.П.”
Печатая в количестве 50 экземпляров тетрадь «Книги Н. Асеева за 20 лет», Кручёных указал в предисловии: „Большинство книг Н. Асеева с автографами, черновиками и вариантами сданы мною в Центральн. Литературный музей при Наркомпросе”. А ведь Асеев несколькими годами раньше писал: „Таков он — герой практических никчемностей, крохотных выгод...”. Но ведь эти никчемности и крохотные выгоды служили его пропитанию, а теперь порой рассматриваются как ценный вклад в нашу культуру.
Алексей Елисеевич передал мне в рукописи ответ Н. Асеева на один анкетный вопрос, и это же — вырезкой из газеты «Читатель и писатель». Интересно, как правилась рукопись, не нуждавшаяся в исправлениях.
Ещё о „крохотных выгодах”. В письме от 9 ноября 1929 года Кручёных просил меня выслать „какие-нибудь газеты, журналы, где печатался Маяковский (он устраивает выставку «20-летие деятельности»)”. К сожалению, у меня в то время не оказалось архивных номеров газет. А через несколько десятилетий В. Катанян, не зная об этом случае, к слову пришлось, писал мне: „Когда Маяковский собирал материалы для выставки, он платил Кручу по три рубля за газету, в которой есть его стихи”. Вот обстоятельства, когда понадобилась помощь Кручёных, хотя и носившая меркантильный характер.
В контактах Кручёных с писателями была, мне кажется, ещё одна сторона, кроме чисто практической. Это — стремление заручиться мнениями и суждениями о себе наиболее авторитетных литераторов. Так был создан сборник «Жив Кручёных!», изданный Всероссийским союзом поэтов в 1925 году. В подзаголовке сборника значилось: „Жив, курилка, жива надежда моя! (Народная поговорка)”. Но особенно это выразилось в выпущенных им самим трёх тетрадях «Турнира поэтов» с конкурсом на лучшую рифму к фамилии Кручёных. Началось со строк Маяковского: „— Учи учёных! — сказал Кручёных”. Конкурс рифм объявил В. Катаев, записавший в альбоме Кручёных следующую шутку:
В предисловии Кручёных предусмотрительно оговорил: Разумеется, возводимые на меня многократные обвинения есть только игра слов.
15 сентября 1929 года Б. Пастернак подарил Кручёных книгу Гёте «Тайны» в своём переводе с надписью: „Общественному обличителю Алёше Кручёных. Не отпираюсь: согрешил. Б.П.” Этот автограф долго оставался для меня загадочным, пока я не прочёл у Александра Блока, как он в 1920 году, будучи членом редколлегии издательства «Всемирная литература» и ведая сектором немецкой литературы, дал отзыв о переведенных Борисом Пастернаком «Посвящении» и «Тайнах» Гёте. Для сопоставления с переводом Пастернака Блок привёл в отзыве отдельные октавы «Посвящения» в буквальном переводе, а потом пришёл к заключению, что старый перевод Сидорова, изданный в 1914 году, „производит впечатление более гётевское”. Как отнёсся Б. Пастернак к такому решению? Не знаю, но в 1922 году его перевод был выпущен издательством «Современник» отдельной книжкой. Её и подарил Борис Леонидович Алексею Кручёных со столь странным автографом...
Из писателей, наиболее благосклонно относившихся к Кручёных, ценивших его как незаурядную личность, ближе всех стоял к нему Борис Пастернак. Алексей Елисеевич часто виделся с ним. Об одном посещении Пастернака он писал мне 11 декабря 1931 года:
Здесь я прерву повествование Алексея Елисеевича, тем более, что описание вечера, проведенного у Б. Пастернака, на этом завершается, и замечу, что интерес к чтению мог быть вызван и общепризнанным искусством Кручёных-чтеца. Кстати, об этом замечательно сказано в воспоминаниях В.А. Катаняна ‹...›.
Продолжу письмо Алексея Елисеевича:
За год с лишним до этого письма, 24 марта 1930 года, Кручёных писал мне: „Б.П. получил Ваши книги, собирался написать Вам письмо, не знаю, сделал ли он это, я его давно не видел”.
Припоминаю, что я посылал Борису Леонидовичу, по его просьбе, высказанной через Кручёных, книгу «Мимиямбы», а также, по моей инициативе, книгу поэта Вячеслава Иванова «Дионис и прадионисийство», вышедшую в Баку в 1923 году, когда автор занимал пост ректора Бакинского университета.
Борис Пастернак послал мне книгу Гёте ''Тайны'' в своём переводе и передал через Кручёных просьбу достать, если есть, отзывы в местной печати о [книге его стихов] ''Поверх барьеров''.
Очередную свою продукцию — № 244, «Выброшенный Пастернак» — Кручёных прислал мне „для сверки и дополнений”. В предисловии Кручёных пояснил: „Выброшенный кем? Самим собою! Это не значит, что плохой”. И дальше: „Причину изъятия строф из кавказских стихов Пастернак объясняет так: „Середина, показавшаяся мне потом надуманной и искусственной, выброшена”. Это относилось к стихотворению «Пока мы по Кавказу лазаем...», помещённом сперва без сокращений в газете «Темпы» (Тбилиси), а затем, с изъятием отдельных строф, в книге «Второе рождение». Через двадцать пять лет, составляя книгу «Стихи о Грузии...»' (последнюю прижизненную книгу Б. Пастернака) и совсем забыв о приведенной в книжке Кручёных мотивировке сокращения, я поместил стихотворение «Пока мы по Кавказу лазаем...» по сохранившейся у меня рукописи автора полностью. И вот что писал мне Борис Леонидович 7 августа 1957 года: „Страшно обрадовался выпущенным строфам из «Пока мы по Кавказу...». Какой Вы молодец, что их где-то нашли, — без конца Вам благодарен”. Так, с течением времени, изменился взгляд поэта на собственные строки, высказанный Алексею Кручёных.
Хотя с некрологом Велимиру Хлебникову Маяковский выступил не только от своего имени, но и от имени друзей — поэтов Асеева, Бурлюка, Кручёных, Каменского, Пастернака, — отношение его к ним было неоднозначным. Проявляя доброжелательное, дружеское отношение к Алексею Кручёных, Маяковский в отдельных случаях высказывался о нём критически, даже с иронией, например, о его книжках о Есенине. По словам Л.Ю. Брик, Маяковский считал Кручёных „одарённейшим поэтом для поэтов”.
Нельзя не заметить, что в числе записок, посланных Маяковскому на его вечерах, встречались относящиеся к Кручёных. Так, в Харькове, 21 ноября 1927 года была подана записка: „Как вы терпите в вашей организации Кручёных. Ведь не только “заумный'”, но и безумный. По-моему, футуристы — свои в доску парни, но только немного сумасшедшие” (ЦГАЛИ, ф. 336, оп. 5, ед. хр. 30, № 59). В том же году, в Баку, был задан вопрос: „Товарищ Маяковский. Никак не пойму я, что общего между тобой и Кручёных?” (ГММ). На такие вопросы можно было бы ответить словами Маяковского, что ЛЕФ объединял более двенадцати групп различных оттенков. При этом могу сказать, что Кручёных гордился своей близостью с Маяковским и тем, что первую книгу о нём написал именно он в 1914 году.
Однажды мне довелось быть очевидцем выступления Кручёных в поддержку Маяковского. Это было 20 октября 1927 года. В зале Политехнического музея Маяковский читал свою новую поэму «Хорошо!». Когда он дочитал последние строки, в проходе перед эстрадой появился какой-то человек и, помахивая тонкой книжонкой, стал требовать слова. Никто или почти никто не понимал, что происходит.
Коснусь предыстории. Накануне, на вечере В.В. Каменского, в фойе, некий Альвэк с руки продавал свою брошюру «Нахлебники Хлебникова» (издание автора), содержавшую нелепые выпады против Маяковского и Асеева. Мы — Кручёных, В. Катанян и я — купили по одной книжке. Маяковский был предупреждён о возможной на его вечере провокации. И когда появился Альвэк, он решительно заявил ему: „Вечер мой, и я не даю вам слова!”. Потом достал записную книжку и, в двух словах изложив суть вопроса, зачитал список рукописей Хлебникова, сданных им Г.О. Винокуру для хранения в Московском лингвистическом кружке. Затем он прочёл свои стихи и стихи Хлебникова, приведенные Альвэком в качестве образца “заимствования”. В зале — смех. Не попирая принципа демократии, Маяковский ставит на голосование вопрос: дать или не дать Альвэку слово? Дружно проголосовали: не давать. Тогда Алексей Кручёных подошёл к Альвэку и стал отнимать у него книжонку, а самого автора подталкивать к выходным дверям. В удалении нарушителя порядка помог вышедший из рядов публики и слушавший весь вечер поэму милиционер, а не „наряд милиции”, как расписала на другой день газета «Вечерняя Москва». Выступление Альвэка не смогло омрачить вечер, отвлечь внимание публики, восхищённой новой поэмой Маяковского и бурно аплодировавшей ему.
А вот один эпизод общения Кручёных с Маяковским. 10 декабря 1928 года Алексей Елисеевич писал мне: „Вчера приехал из-за границы Маяковский, и на радостях мы сражались до утра. Вася К-ян тоже сражался”. Это „сражение” было модной в то время игрой “маджонг”. Однажды мне довелось присутствовать при этой игре. Ставки были самые низкие, но спортивный азарт высокий. Не обошлось, однако, без забавного казуса. Кручёных, когда у него иссякли скудные средства для расплаты при проигрыше, выпустил, с согласия игравших, мелкую монету, условно обозначенную на клочках бумаги, чтобы потом рассчитаться. Но когда эти клочки возвратились к нему в виде выигрыша, он стал отказываться принимать их за деньги. Это вызвало взрыв хохота, а он соблюдал полную серьёзность. Так я и не узнал, была ли это мистификация или убеждённость в своей правоте.
В 1930 году, вскоре после смерти Маяковского, Алексей Кручёных начал выпускать сборники «Живой Маяковский». В предисловии к первому сборнику он отметил, что это первая попытка собирания материалов (существенных и несущественных), предназначенных для будущих исследователей, а потому печатаемых „крошечным тиражом”. Тираж первых двух выпусков, отпечатанных в стеклографии, — 300 экземпляров, третьего — сто. На обложках — портреты Маяковского работы Игоря Терентьева, Давида Бурлюка (1912 г.), И. Клюна.
Для третьего и последующих машинописных сборников некоторые материалы предоставил и я, в частности, записал по просьбе Кручёных воспоминания поэта Николая (Колау) Чернявского, знакомого Алексею Елисеевичу по годам пребывания в Тифлисе.
Нельзя не учитывать, что в самом начале тридцатых годов Маяковского явно замалчивали, ещё не были опубликованы наиболее значительные воспоминания о нём, и попытка Кручёных показать „живого Маяковского на трибуне и в быту” по записанным и собранным им разговорам, репликам и беседам поэта имела определённый смысл. В подборе материалов для сборников принимали участие Юрий Олеша, Валентин Катаев и другие.
Друзья по ЛЕФу относились к инициативе Кручёных неоднозначно. Виктор Борисович Шкловский 26 апреля 1933 года, только вернувшись в Тбилиси из поездки со мной в Багдади, родное село Владимира Маяковского, провёл вечер в гостях у литератора Бориса Корнеева и, по нашей просьбе, долго рассказывал о Маяковском, начиная с первой встречи с ним. С явной горечью он произнёс такую фразу: „‹...› За ним молодым шакалом шёл Кручёных и уже подбирал куски для живого и мёртвого Маяковского”. Слова эти прозвучали сурово, хотя Кручёных издавал сборники «Живой Маяковский» от имени «Группы друзей Маяковского».
Обозначая на выпускавшихся на протяжении ряда лет тематических сериях книжек — издание «Группы лефовцев», «Группы друзей Хлебникова», «Группы друзей Маяковского» — Алексей Кручёных, конечно же, хотел придать своим начинаниям общественный характер. Издание «Неизданного Хлебникова» (24 тетрадей) почти совпало по времени с началом выпуска в Ленинграде Собрания произведений Велимира Хлебникова в пяти томах под редакцией Ю. Тынянова и Н. Степанова. Тем не менее, Кручёных отважился на свой вклад в это важное начинание. Я определённо недооценил оперативность ленинградских издателей, когда писал Алексею Елисеевичу: „Серия «Неизданный Хлебников» — Ваш великий почин, когда ещё раскачается «Ленинградское товарищество писателей»”. Конечно, и масштабы изданий были несопоставимы.
Кручёных не ограничивался перепечаткой старых, прижизненных изданий Хлебникова. Он писал мне 2 апреля 1931 года: „У меня тьма работы. Нашёл две неиздан. поэмы В. Хлебникова и много стихов. Всё надо перепечатать... Одну поэму хотят напечатать в «Лит. газете»”. Сейчас, когда ведётся работа по уточнению текстов произведений Хлебникова, сличению их с черновиками, усилия Кручёных в текстологическом отношении могут оказаться несовершенными, но всё же выпуски «Неизданного Хлебникова», мне кажется, привлекают внимание отдельными редакционными примечаниями, страничками воспоминаний, высказываниями, которыми сопровождены некоторые тексты и, в особенности, предисловием, которое написал Юрий Олеша к 19-му выпуску «Неизданного Хлебникова» и к отдельному изданию поэмы «Зверинец». Важна для исследователей изложенная Алексеем Кручёных история впервые публикуемого им письма-протеста Хлебникова по поводу издания его рукописей путём хитрости без ведома автора.
Имя Хлебникова часто возникало в нашей переписке. Например, я писал Кручёных: „Возможно, Вас заинтересует следующая библиографическая справка: в 1928 году в Харькове издана книга «Радиус авангардовцев». Литературный сборник. Издание авторов. В этой книге опубликованы два стихотворения Хлебникова. Второе заканчивается строками:
Я выписал два экземпляра этой книги и один переслал Кручёных.
Однажды Кручёных рассказал мне, как им была написана критическая книга «Почему любят Есенина», но издательство, не помню какое, отклонило её, не согласившись с его суждениями. Мне он не дал прочесть эту работу. В 1926 году стали выходить книжки А. Кручёных о Есенине. Первая была выпущена Всероссийским союзом поэтов, а все последующие — самим автором. Здесь тоже сказалось несогласие издательства. Учитывая это и отклики печати, Кручёных писал: „Зачинатели всегда гонимы”. Но и Маяковский назвал его книжки о Есенине „плохо пахнувшими”.
На подаренном мне экземпляре книжки «Гибель Есенина» Кручёных написал: „Г. Бебутову не на погибель. А.Кр. Я первый угробил Есенина, да!”. Последовал тяжёлый разговор. Ещё тяжелее вспоминать об этом сейчас, но то, что было, — было, и не следует об этом забывать.
Почувствовав шаткость своей позиции, Кручёных прибёг к оговорке в самой книжке: „Пусть не подумает читатель, что я свожу какие-нибудь личные счёты с Есениным... и никогда у нас не было никаких личных недоразумений, стычек или чего-нибудь подобного”. В подтверждение этого странного самооправдания Кручёных приводит написанное ему Есениным на память “заумное стихотворение” и две есенинские записи в альбом.
Двойственность Кручёных в отношении к творческому наследию Есенина вспоминается мне ещё в одном случае.
В конце двадцатых годов я увлёкся подготовкой сборника метериалов памяти Есенина, располагая некоторыми рукописями и автографами поэта, фотоснимками и иллюстрациями, несколькими воспоминаниями. И Алексей Елисеевич, что и поразило меня, узнав о моём начинании, стал усиленно помогать мне в подборе материалов и торопить с изданием сборника. Он присылал мне: редкую фотографию Сергея Есенина, авторские оттиски с гравюр А. Гончарова к «Пугачёву» Есенина, рукопись наброска плана задуманного Есениным журнала, уже упомянутый мною отрывок письма Айседоры Дункан, стихотворные строки Есенина, написанные перед памятником Пушкину, портретные зарисовки художников. Кручёных писал мне тогда: „С нетерпением жду Ваше издание — альбом. Из есенинского у меня ещё имеется несколько неизданных фото”. Задуманный сборник не удалось выпустить, а в тридцатые–сороковые годы тем более это было затруднительно. Некоторые материалы я приводил в моих публикациях в разные годы, в частности, в статье «Полгода творческого взлёта» в журнале «Урал».
В последнем письме, полученном мною от Кручёных, есть строки: „‹...› Здоровье моё — переменное, но через день чувствую себя бодро, главная работа: читаю на магнитофон и сдаю и готовлю материалы для ЦГАЛИ”. Это уже завершение пути, большой легендарной жизни — май 1964 года. А в 1968-ом он умер.
‹Осень 1985, Курган›
Это интересный тоже человек, сложный страшно. По-моему, он интересный поэт. Он всегда пользовался колоссальным успехом у аудитории, это был гром аплодисментов, и это не в первый период футуризма, а уже когда был ЛЕФ. Он выступал самостоятельно со своими стихами в клубах, в университете. Я бывала на этих вечерах. Просто колоссальный успех был!
Вот Хлебников никак не выступал. Когда он говорил стихи, никто ничего не слышал, потому что он только бормотал.
Кручёных — человек странный. И практицизм его очень сомнительный. Ведь комната его недалеко ушла от комнаты Хлебникова, это комната какого-то алхимика. Это стопроцентный фантазёр, несмотря на его делячество.
И как он держится в жизни — это ведь тоже прямо из анекдота. Абсолютно ни с кем не связан, как будто висит в воздухе. И при этом он не теряет собственного лица, он страшный индивидуалист, замкнутый очень человек. И вместе с тем он и советский человек. Вот вы поговорите с ним: он никогда ни на что не жалуется, у него нытья ни капельки нет.
И он себя не переоценивает. Он о себе говорит, что „я не такой гениальный, как Маяковской”. А это человек того футуристического периода, когда все себя провозглашали гениями.
Он не опустился, у него очень много жизненной энергии; разные романчики у него там, но он всё это держит на расстоянии. Такое впечатление, что он прежде всего сохраняет себе свободу от всяких обязательств. Это страшно интересный тип. Внешне он производит неприятное впечатление, с ним трудно говорить: он кричит. Он — барахольщик, у меня подбирает всякий мусор. Он ходил ко мне годами, забирал всякие ненужные рисунки, и ко всем он так ходил. Он ни на что не обижается, что бы ему ни говорили. Он ходит к каждому писателю и забирает всякие книжечки, автографы.
Он знаток и в поэзии, и в рисунке. Он мне иногда очень помогает своими замечаниями. Как-то я делала для него иллюстрации, и я поняла, что это большой интуит, безусловно, если не знаток в рисунке. Он сам, кажется, был учителем рисования.
Вот Хлебникова сейчас любит и знает молодёжь студенческая. Им даже больше интересуются, чем Маяковским, — известный круг. Маяковский, безусловно, ценил Кручёных. Это было ядро — Маяковский, Бурлюк, Хлебников, Кручёных и Каменский. И сейчас Бурлюк в своих статьях и воспоминаниях всё время упоминает Кручёных.
Кручёных изумительно читает свои стихи. Они образные, рассчитанные на впечатление, но они очень яркие, резкие, не заметить их нельзя. Своё стихотворение «Вьюга» он страшно читает — как вьюга завывает, как щенок скулит, замерзает. ‹...›
‹17 ноября 1939, Москва›
Личное же моё знакомство с Кручёных произошло уже в 30-е годы, и познакомил меня с ним мой муж, Павел Николаевич Васильев. Сам он с Кручёных познакомился, видимо, в конце 1932 или в начале 1933 года, так как уже в 1933 году Кручёных бывал у нас частым гостем в доме на Палихе. Начиналось с чаепития, причём, Кручёных всегда доставал из своего неизменного портфеля свою кружку. Потом они садились за стол и начиналась игра в преферанс. Бывало, между ними возникал разговор об искусстве или поэзии, вообще на животрепещущие темы. Однажды я попросила Кручёных прочесть что-либо из его стихов. Он долго не соглашался, а потом прочёл строчки: „...И красные и голубые юйца, что вам полюбится, то и глотайте...”, а затем своё известное: „Дыр бул щыл...” и стал уверять меня, что в последнем больше русского, национального, чем во всей поэзии Пушкина.
Я смотрела на него в недоумении и не могла понять: серьёзно ли он об этом говорит?..
Была ли между Павлом и Алексеем Елисеевичем дружба? Нет, дружбой их отношения я бы всё же не стала называть, а просто хорошими, добрыми отношениями двух поэтов. Павел по натуре был человек общительный, этими же свойствами обладал и Кручёных. Вероятно, это и сблизило их, несмотря на разницу в годах.
Внешний облик Кручёных запомнился мне таким: человек среднего роста, сухощавый, суетливый и непоседливый, вечно в движении, походка быстрая, мелкими шажками, немного подпрыгивающая. Когда он начинал говорить, то слова лились потоком, голос у него был громкий и резкий. Начиная говорить об одном, он перескакивал на другое, и неожиданно заканчивал каким-нибудь каламбуром. А если начинали спорить с Павлом о чём-нибудь, то поднимался такой шум, что, как говорят, “выноси святых из избы”.
Двух поэтов связывал не только преферанс. Иногда они совместно начинали сочинять стихи, такие, например:
...В 1956 году я разыскала Кручёных в надежде, что у него смогу найти что-либо из рукописей Павла. Почему не раньше? Павел Васильев был арестован в 1937 году, а вскоре после него была арестована и я, как жена. Все рукописи, находившиеся в доме, были изъяты при аресте. Только в 1956 году, вернувшись в Москву после 19-летнего отсутствия, — тюрьма, лагерь, ссылка, — я начала хлопоты о посмертной реабилитации Павла и восстановлении его в членстве Союза писателей. Когда все документы были оформлены, я обратилась к Кручёных.
Про Алексея Елисеевича говорили обычно: пусть перед ним будет лежать куча денег, он не возьмёт ни копейки, но если увидит автограф или листок рукописи, или фотографию — это уже не минует рук его. Иногда авторы сами отдавали Алексею Елисеевичу свои отработанные рукописи, текст которых был уже опубликован. Благодаря такому его скрупулёзному собиранию материалов, в ЦГАЛИ накопился один из крупнейших и ценных фондов — фонд Алексея Елисеевича Кручёных.
У Кручёных я нашла довольно объёмистую папку, куда входили рукописи Павла, эпиграммы и несколько фотографий. Всю эту папку я купила у него.
декабрь 1986 – январь 1987, Москва
Я был наслышан о нём ещё в начале 20-ых годов — в моём прекрасном иркутском далеке... И мог ли я представить, что когда- то с ним буду встречаться — с живым, огнемётным — и слышать его язвительные речи (а уж он-то мастер был на них!..). В Иркутске мы, юные советские поэты, входившие в иркутское литературно-художественное объединение (сокращённо ИЛХО, отсюда — “илховцы”) — Иосиф Уткин, Джек Алтаузен, Иван Молчанов-Сибирский, Валерий Друзин и я в том числе, в ту пору под псевдонимом Михаил Бельский, знавали издали Алексея Кручёных как заядлого футуриста и, прежде всего, его знаменитое:
Нас дивило, а то и покоряло его “заумное слово”, его громко шумевшая в ту пору “заумь”...
И вот и приехал с берегов Ангары в 1924 году учиться в Москву, поступил в Высший Литературно-Художественный институт (ВЛХИ), который носил имя Валерия Яковлевича Брюсова ещё при жизни этого поэта, и меня принимал в “свой” институт сам Валерий Яковлевич Брюсов!.. Тогда же я вступил в литературное содружество «Перевал», одним из вожаков которого был уже прославленный прозаик Артём Весёлый, этакий могутный волгарь, косая сажень в плечах, чья проза — вольная, раздольная, как его родная Волга-река, была овеяна течениями новой речи в писательском рукомесле, и в чём-то он близок был по языку и поискам своей, не затоптанной борозды в прозе с лефовцами.
Именно у Артёма Весёлого я и встретил впервые Алексея Кручёных. Дело было так. Жил тогда Артём Весёлый на Тверской улице, где-то поблизости кинотеатра «Арc» и Музея Октябрьской революции. Артём Весёлый пригласил меня зачем-то к себе — “перевальца” и студента-брюсовца как своего младшего соратника по рукомеслу, он и сам был ещё молод (и все мы тогда были молоды!), — и я рад был тому, что буду у него гостем. Прихожу. Обширная, но довольно пустая комната. В гостях у Артёма Весёлого уже был поэт Владимир Заводчиков, тоже студент Брюсовского института, с которым я жил в одной многолюдной комнате студенческого общежития в Борисоглебском переулке (ныне улица Писемского). И ещё один гость был, мне незнакомый, этакий на взгляд щупленький, быстренький, подвижной, как ртуть, ну, прямо, как говорят в народе, „дыру вертит на одном месте”, и постоянно размахивал руками, своеобразно, вразлёт, когда что-то говорил.
Артём Весёлый меня знакомит:
— Алексей Кручёных!
Ба! Тот самый, который написал «Дыр бул щыл убешщур»...
Я прямо так и впился в него глазами.
А он той порой язвительно отчитывал Владимира Заводчикова, который только что прочитал ему свои стихи.
— Где поиски слова, живого, изобретенного? Нельзя же в наше время писать по-старинке, слагая советские стихи на унылый надсоновский лад! — допекал поэта Кручёных.
И продолжал жалить и источать свой яд:
— А ещё студент Литературного института имени Валерия Брюсова! Да и комсомолец к тому же! На что это похоже? — такие стишонки, где заезженные рифмы, затасканные слова, никакого словоизобретательства. За такие вирши Владимир Маяковский выдерет вам волосы: а если он уж что припечатает к кому-нибудь, то ничем не отмоешь никогда!..
Словом, Кручёных так “пронял” Заводчикова, что у того брызнули слёзы, задрожали губы. Так мог Кручёных отбрить стихотворцев, согласно своим убеждениям поэта-новатора, чьё “заумное слово” тогда “помутило” многих; и не только начинающего и не шибко-то броского на поэтические словесные находки Заводчикова (впоследствии он выпустил лучшую свою книгу стихов «Горький мёд»). Соратником самого Маяковского ходил тогда Кручёных, которому суждено было стать “последним из футуристов”!..
Больше всего язвительностью своей речи, нет — жёлчностью! — и поразил меня тогда этот небольшой росточком человек: язык у него был острый, действительно, как бритва... „Так вот он какой — Алексей Кручёных на близком расстоянии!” — подумалось мне тогда у Артёма Весёлого...
И удивительно: вот нынешние поэты, например, Николай Старшинов, если и вспоминают, то называют его „старичком”; а в моей памяти он сохранился навсегда как человек, не имеющий возраста, — как он был “живчиком” в 20-ых годах, щупленький, сухонький, стремительный в движениях, с вечно подпрыгивающей походкой, таким он и сохранился на всю жизнь. Мне кажется, он не менялся, по известному выражению: „Истинная поэзия не знает возраста и не стареет, как севрский фарфор!” А он, Алексей Кручёных, был истинный одержимый поэт, но особого склада, и в рамках общепринятых понятий о литературе не укладывался — ершистый, непокладистый, и тем самым как бы делал вызов литературным староверам всех мастей, недаром же он был одним из застрельщиков создания манифеста и книги «Пощёчина общественному вкусу». Можно с ним не соглашаться и сегодня, но уж не признавать его своеобычности никак невозможно.
“Заумное слово”... А ведь его истоки — в народной изустной поэзии. Вспомнить хотя бы детские считалки:
Ведь понять тут почти ничего невозможно, ум за разум заходит, а ведь действует не только на ребятишек... Таким был порой стих и “заумное слово” Алексея Кручёных. И это понимали и чтили его соратники и собратья — и великий Маяковский, и словопроходец Хлебников.
Он был до некоторой степени разрушитель косных утвердившихся эстетических взглядов в русской поэзии. Не каждый с этим мирился. Были тут, конечно, и завихрения, и неоправданные наскоки на Сергея Есенина — это был неверный шаг, многие ему этого не прощают (в том числе и я!); это был запальчивый выпад (а запальчивость была ему свойственна! Он её пронёс через всю сознательную жизнь, исповедуя до конца своё “заумное слово”).
Но ведь за этим была и большая осведомлённость, большие и углублённые познания движения и развития русской поэтической речи. Недаром же Кручёных утвердился в моём сознании ещё и как дотошный библиофил, книжник в высоком смысле этого слова, и, когда нужно, мог добыть редкостную книгу как из-под земли, на это у него был особенный нюх, как ни у кого. К тому же, это свойство его природы было для него и верным источником добывания куска хлеба насущного. Чего греха таить? — и это нисколько не порочит Кручёных — он ничего не издавал и почти не печатался с конца 20-ых годов, занимался из-за нужды, одолевшей его, книжным комиссионерством, и среди писателей, в этой области, он не имел соперников, равных ему. Я испытал это сам. Могу рассказать.
Спустя год-два после Великий Отечественной войны мне потребовалось разыскать собственную мою книгу стихов «Сибирская родословная», вышедшую в Москве в 1937 году. Редактором её был мой соратник по перу, ещё в Иркутске, поэт Иосиф Уткин. У меня оставался единственный экземпляр. Союз писателей попросил его для каких-то целей, и там, в недрах его, книгу “зачитали”, она затерялась, да так, что и следов не осталось. Затерялись и мои книги, изданные в Новосибирске, одна — «Вьюжные дни», где были мои стихи, другая — сборник «Художественная литература в Сибири: 1922–1927 годы», в котором обо мне была статья Вивиана Азарьевича Итина — собирателя поэзии в журнале «Сибирские огни», моего литературного крёстного батьки и дядьки, и опекуна, под красноречивым заглавием: «Скромный разбойник»...
Я обратился за помощью к Алексею Кручёных.
Был какой-то праздничный, возможно, воскресный день. Мы сидели с ним в садике перед старым зданием Московского университета на былой Моховой улице. Уж не знаю, почему мы очутились рядом на одной скамеечке; позади нас возвышался бюст Михайлы Ломоносова!
— Можете достать мне эти книги? — спросил я у Кручёных. — До зарезу нужны. Вся надежда на вас. Я обегал всю Москву, все книжные магазины и киоски — увы! — днём с огнём не сыщешь теперь этих книг. Помогите.
— Помогу! Но только с условием. Сколько вам нужно?
— По две штуки каждой из этих книг.
— Хорошо. Поиски будут трудные. Я не сквалыжник. Но дёшево вы не отделаетесь.
Тогда был другой курс денег. Он запросил за каждый экземпляр что-то по сто рублей.
— И сверх того, — прибавил он, — вы ещё дадите мне по новой книге на каждый экземпляр какого-нибудь классика, только что изданного «Художественной литературой».
Я пошёл на все эти условия. И что же? Он действительно выкопал эти, казалось, навсегда пропавшие для меня сборники, как из-под земли, — и я до сего дня благодарен ему... Ведь это же говорит о том, что он был великий знаток книги и непревзойдённый книжный следопыт. У него у самого были собраны бесценные книжные сокровища, и многие ему дарственные.
— Знайте, — поучал он меня, — у букинистов книга с автографом ценится дороже, чем без автографа.
Это я навсегда запомнил.
Я думал, что он — мой земляк, сибиряк, крепко обмосковившийся, как и я впоследствии. Ведь его фамилия звучала чисто по-сибирски, “по-чалдонски”!.. В Сибири старики часто спрашивали: „Чеевич вы будете по изотчеству?” А им отвечали: „Непомнящих”, „Седых”, „Задворных”. Моя мать — коренная сибирячка из рода русских старожилов Сибири, в девичестве носила фамилию Сизых. Оказалось, Алексей Кручёных родился и вырос на Херсонщине, а потом и зажился навсегда в Москве. Тут что-то роднило нас, хотя я вовсе не был последователем его “заумного слова”, но его приверженность к русской народной речи, нашему фольклору мне тоже не чужда и тоже у меня в крови.
Что-то его сближало с поэтами-словотворцами разных возрастов, и особенно тяготел он к молодым, и немудрено, что он сдружился с Павлом Васильевым, поэтом широкого буйного размаха, моим сверстником и земляком. И я часто встречал у него, на Потылихе, Алексея Кручёных. По возрасту, они были далеко не ровня, а вот по своеволию, по самобытности, по любви к речетворчеству — близки, и это их роднило. Но они были живые люди, и любили жизнь со всеми её соблазнами.
Ночевал я как-то у Павла Васильева на Потылихе, где он получил с женой, Еленой Александровной Вяловой, комнату. Всю неделю перед тем он играл на крупные деньги в карты с Алексеем Кручёных. И кто в них кинет камень за это? Ведь и сам Александр Сергеевич Пушкин был страстный картёжник и даже проиграл однажды рукопись своих стихов Н.В. Всеволожскому...
Вот и Павел Васильев сражался в карты с Алексеем Кручёных, и про них можно сказать словами того же Пушкина:
И Васильев, не моргнув глазом, доказывал мне, что Кручёных — бес в образе человека.
— Как дело-то было? — рассказывал Павел Васильев. — Уложил я его у себя спать. Ночью мне захотелось прикурить. А спички на столе, перед окном. А рядом кровать, на которой спал Кручёных. Светила луна — и отбрасывала отблеск на кровать. Взглянул я ненароком на Кручёных — мать ты моя честная! Гляжу, а у него на лбу, из-под волосиков, явственно проступают — что бы ты думал? — чёртовы рожки... Да, да, да, рожки! И тогда мне стало ясно, что я имел дело с нечистой силой!..
Говорил это Павел Васильев на полном серьёзе, он умел это делать неподражаемо, как никто другой, и продолжал в том же духе:
— Ага, думаю, вот почему я проигрывал всю неделю... а меня обыграть трудно... я картёжный игрок ого-го!.. Но разве можно с нечистой силой сладить?.. Ну, чему ты смеёшься? Ты думаешь, я тебе говорю бабкины сказки? С тобой решительно нельзя говорить всерьёз. Я тебя уверяю, Алёшка Кручёных — бес, чёрт в образе человека... Не веришь? Да погляди ты на все его повадки... А Николай Клюев — чернокнижник, в этом я тоже мог самолично убедиться... Не смейся, пожалуйста! В тебе живёт Достоевский, такая в тебе надломленная интеллигентская душонка, ничего ты не принимаешь на веру, — и никакой ты не варнак сибирский...
Павел Васильев передохнул маленько — и совсем огорошил меня дальнейшей байкой.
— Ну, ладно... Слушай дальше... В другой раз, когда Алексей Кручёных, отвернувшись к стенке, стал отслюнивать выигранный у меня большой денежный куш, я подкрался сзади — и перекрестил его трижды широким православным крестом, — и тогда Кручёных повели корчи — он не выдержал креста. Мне стало окончательно ясно, что он столько же заядлый футурист, сколько самый допотопный чёрт. И я перестал с ним играть в карты...
Это, конечно забавно. Но и достаточно рисует взаимоотношения обоих этих недюжинных людей... И я счастлив, что судьба одарила меня знакомством с ними, а и даже дружбой...
Ещё одна встреча... Было это уже у другого поэта, тоже молодого, — у Джека Алтаузена, с которым мы начинали свою писательскую судьбу в Иркутске и продолжали её в Москве. Кручёных часто гащивал у Алтаузена, на почве, главным образом, собирания книжных сокровищ — у того и у другого были замечательные и богатые личные, домашние библиотеки. У Алтаузена даже висела предупреждающая надпись на книжных полках: „Книги на дом у меня не выдаются никому, даже самым закадычным приятелям”. Кручёных иногда снабжал Алтаузена редкостными книгами.
Мы сидели за обеденным столом. Джек — довольно привередливый в домашней обстановке — говорит своей милой жене, Клавдии Ильиничне:
— Клава, опять у тебя сегодня сосиски какие-то задубелые и чем-то пованивают! Есть нельзя!
— Ну, что ты, Джек! — заступился Кручёных. — Клавдия Ильинична прекрасно у тебя готовит. И эти сосиски ничем не попахивают. Зря это ты.
— Ну, ты, Алексей, известный примиренщик. И что не подай, тебе всё кажется съедобным, — немного грубовато отрезал Джек, совсем и не по возрасту и без малейшей почтительности, даже оскорбительно.
— Да нет, Джек, — огрызнулся Кручёных, — ты же отлично знаешь, я много несъедобного не принимал и в нашей поэзии, и в жизни, и воюю с этим до-сегодня. Так и знай... А сосиски отличные!..
Из этого можно заключить, что Алексей Кручёных был запросто с более “молодшими” его по возрасту поэтами, и они чувствовали себя с ним как на равной ноге, но иной раз излишне панибратски и неуважительно...
Но бытовые особенности (порой и теневые!) не заслоняют значительности образа Алексея Кручёных, несомненно своеобразного явления в нашей отечественной поэзии, оставившего в ней свой, неизгладимый след. За ним навсегда остаётся «Сдвигология русского стиха». Но в мои задачи сегодня не входит обязанность углубляться в его писательские свойства и качества — это сделают и делают уже за меня лучше и обстоятельнее другие. Да он и сам прекрасно рассказал о себе.
Мне же хотелось дать несколько зарисовок, так или иначе воссоздающих живой образ Алексея Кручёных. Уж очень своеобразный и противоречивый был человек, уж очень своеобразна и трудна была его жизнь!..
Как-то Максим Горький сказал: „Чудаки украшают мир!”
Вот таким прекрасным чудаком, охваченным раз навсегда всепоглощающей его большой идеей — новаторством в нашей поэзии, поисками нового, “заумного”, слова — и был “последний футурист” — Алексей Елисеевич Кручёных!
17 июля 1987, Москва
— Разыскиваю одного молодого поэта. Недавно в «Новом мире» прочитал статью «Цветные карандаши», где сказано, что этот Виктор Урин — последователь Хлебникова.
— Так он тут и живёт, в общежитии. Пойдём, авось застанем...
И вот этот дворник Андрей — писатель Андрей Платонов — знакомит меня с Алексеем Кручёных, прославленным футуристом. Гость раскрывает большущий блокнот, протягивает мне и говорит:
— Напишите несколько строк ваших стихов.
— Это для какой цели?
— Дело в том, что я собираю автографы знаменитых людей.
— Но я-то здесь при чём?
— Володя тоже отнекивался, когда я просил что-нибудь вот так мне написать, а потом взял да и стал великим поэтом.
Для него Маяковский по-прежнему был Володей. Я вдруг вспомнил, что недавно на семинаре Илья Сельвинский цитировал его эпиграммы, и среди них двустишье-загадку:
Ответ я узнал гораздо позже, от Велимира Хлебникова: Прилепил к сибирскому зову на чёных. Имелись в виду фамилии Седых, Черных, Сухих и т.п.
— Скажу, чем вы меня заинтересовали, — продолжил проситель. — После статьи Бориса Рунина я приобрёл вашу книгу «Весна победителей». Там отголоски не только Хлебникова, но и Кручёных.
— Что вы имеете в виду?
— Ввёрнуты нечеловеческие слова.
И действительно, у меня то снайпер дует в замёрзший кулак: „х-г-г-г-г-х”, то
Если же говорить о прямом влиянии Кручёных с его „дыр-бул-ширами”, то было у меня и такое:
В этом стихотворении «Птицы», кстати, есть и другие опыты звукотворчества в духе новаторов начала века, среди которых “блистал” Кручёных. Пусть и не был он особо крупной фигурой, но без него, наверное, исчез бы тот аромат, о котором сам Кручёных и говорил мне:
— Из чего состоит борщ? Из воды, мяса, овощей и специй. А что получится без специй?
И сам же ответил:
— Получится футуризм без Кручёных.
— А вы какая специя конкретно?
— Травы. Порой целебные, иной раз и отравные.
Так писал Хлебников о своём спутнике тех лет Алексее Кручёных, который действительно издал их общую «Игра в аду» в 1912 году. Это была поэма с рисунками Н. Гончаровой. И вдохновляла поэтов херсонская красавица З. Бондаренко. Если бы я жил сейчас в Херсоне, то ринулся бы на поиски потомков этой женщины. Ведь где-то на чердаках или в подвалах должны бы сохраниться архивы. Сохранилась же фотография, где Хлебников в соломенной шляпе рядом с этой красавицей-смуглянкой, поднявшей над собой не просто корзину, а некое переплетённое параллелями и меридианами полушарие нашей планеты. Разве не он — председатель Земного шара — надев кольцо, написал однажды:
Каков контраст! Мог ли подумать Хлебников, что именно Кручёных, этот коварный сплетник и тому подобное, окажется в посмертии первым глашатаем его музы? О, боже! Так и живём: сегодня нам улыбаются, а умри — напрочь забудут. Как знать, может быть враг-то и доскажет, донесёт и дораскроет нас — без нас.
Знавать Алексея Кручёных мне довелось многие годы. Ни задушевной дружбы, ни творческого содружества не было, и быть не могло. Просто навещал его в тесной комнатёнке, заваленной книгами и бумагами. Застойный запах мышей, пыли, и вдруг — сквознячок чистейшей поэзии.
— Интонация имеет значение! Кто ко мне плохо относится, произносит так: „А! (и машет рукой) Кручёных!”
Когда ему исполнилось восемьдесят лет, в малом зале Дома Литераторов народа собралось не густо, человек пятьдесят. Кручёных, выступая с ответным словом:
— Я счастлив, что зал наполовину полон!
И вынимает из потёртого портфеля вазочку и букетик цветов:
— Я знал, что никто мне цветов не принесёт. Вот если бы Хлебников был жив.... Впрочем, и Хлебникову бы не принесли. Такова судьба великих людей России.
Он произнёс это саркастически, с язвительной улыбкой. Но в 1986 году, когда ему исполнилось сто лет, я поместил в журнале «Мост друзей» свои воспоминания и объяснил, почему восклицаю:
— А! (восторженно) Кручёных!
май 2000 г., Нью-Йорк
Сергей Сухопаров
Первый раз в жизни мы обедали вместе. Было ещё не поздно, но почему-то безлюдно. На одну секунду я подумал: как капризно время — то переполненные залы, то полупустое кафе. И вот в этой странной, я бы даже сказал неестественной, тишине, под далекие зуки городского шума, Алексей Кручёных внезапно сказал мне:
— Теперь, когда вся моя жизнь отошла в прошлое, я понял, что если бы не было войны 1914 года, то я жил бы все время в Астрахани и, вероятно, гораздо счастливее. Я был скромным учителем рисования. Ты ведь помнишь, тогда во всех средних учебных заведениях был такой предмет.
Я засмеялся, а он спросил:
— Что тут смешного?
Я ответил:
— Я вспомнил уроки рисования в кадетском корпусе, где я учился. У нас был чудесный преподаватель. Кому не удавалось срисовать вазы, он подходил, садился рядом и со словами: „Я помогу вам нарисовать”, воспроизводил предмет так хорошо, что потом ставил ученику высший балл.
Алексей Кручёных грустно улыбнулся:
— Нет, я был очень строгим. Но дело не в этом. Хочу тебе сказать откровенно — писателем меня сделала война.
— ???
— Я никому никогда этого не рассказывал, а теперь, когда я уже один-одинёшенек и до меня никому нет никакого дела, хочу рассказать всё... Я уверен, что люди могли бы так сделать, чтобы никогда никакой войны не было...
Я улыбнулся:
— У тебя есть рецепт?
— Да.
— Почему ты не покажешь его миру?
— Потому что он годен для меня и некоторых других, но их мало. А было бы больше — не было бы войны. Через несколько дней после начала первой мировой, узнав, что мне выслали официальную повестку явиться на призывной пункт, я взял билет и поехал в Петербург. Почему именно туда? — Я интересовался литературой и знал о существовании В. Хлебникова, Кульбина, братьев Бурлюков, В. Маяковского... Я думал так: если в Астрахани заберут меня в армию, то я уже не выкручусь, а в Петербурге я не прописан и как-нибудь просуществую.
— Всё же это рискованно, ехать в город, где у тебя нет никого, а знание фамилий — это ещё не пригласительные письма.
— У меня было такое состояние, что я ничего не знал и не думал, а просто действовал, бежал, как зверь от ружья, и, представь себе: случилось чудо. Приезжаю в Петербург. Денег в обрез. Чемодан сдаю на хранение и еду в адресный стол. Узнаю адрес Кульбина. Маяковский среди петербуржцев не значится. Бурлюки — тоже. И Хлебникова нет. Адрес Кульбина дали. Я — к нему. Знал его только как футуриста, а кто он и чем занимается — не имел никакого понятия. Представляешь моё изумление, когда меня встречает пожилой генерал, но не боевой, а медицинский. Поговорили. Он сказал: „Да, вы настоящий футурист. Надолго приехали?” — Я ответил: „Если можно — насовсем”. И тут ему всё выложил. Он покачал головой. Я сидел ни жив, ни мёртв. Молчу. Он улыбнулся, но я ещё боялся ответить на его улыбку и чувствовал себя, как пойманная мышь, которая ещё не знает, что с ней сделают. Наконец узнал. Это и было чудо. Одна записка насчёт комнаты — у кого-то из его знакомых, вторая записка — пропуск на поэтический вечер, который должен состояться через неделю. Выступают футуристы. Третья — к военному врачу. Предложил денег, я отказался. Там, куда он устроил меня на квартиру, был телефон. Обещал сам позвонить, узнать, как дела. Остальное ты знаешь. И пошло, поехало, покатилось... А теперь самому не верится, что всё это было в действительности... Словно сон...
Мы простились, и на этот раз навсегда. Конечно, его исповедь была не настоящей, хотя и искренней. Не настоящей была его мнимая убеждённость, что война сделала из него писателя. Он был образован, умён, талантлив. «Дыр бул щил» — была своего рода реклама, чтобы привлечь внимание публики. Он первый заметил сдвиги в стихах некоторых поэтов. Даже у Пушкина нашёл и опубликовал в своей брошюре, а многие обвинили его в кощунстве. Вот один из его примеров: „Со сна садится в ванну сольдом” (строка из «Евгения Онегина»).
Много есть в сочинениях Алексея Кручёных парадоксального, много нелепого, но были у него и некоторые достоинства. Его любили В. Маяковский, В. Хлебников, братья Бурлюки. Алексей Кручёных был ревностным собирателем личной библиотеки, рукописей писателей, автографов. Очень грустно, что после его смерти многое пропало. По словам исследователя А.Е. Парниса, в ЦГАЛИ, куда поступил архив А. Кручёных, не оказалось номера астраханской газеты «Красный воин» 1918 года, в котором была опубликована статья В. Хлебникова. А.Е. Парнис утверждал, что это огромная потеря, так как в течение многих лет он искал этот номер газеты, но так и не нашёл.
Имя Алексея Кручёных, как бы ни относились к нему литературоведы, без сомненья, вошло в литературу XX века.
Мироздание начинается с четверга
А. Кручёных
Вот что сказал по этому поводу сам Кручёных. Теперяки сидят и не знают.
Кручёных пишет, пьёт вино, любит женщин, играет в карты, в кармане у него краплёная колода.
Ночь застаёт его возле утреннего луча.
Божество создало в отдельности Велимира Хлебникова и Алексея Кручёных, чтобы не соединить их в одном лице.
Они знакомятся. Хлебников пишет из Петербурга Н.В. Николаевой: ‹...› я имею удовольствие видеть каждый день Кручёных.
Добывая из воздуха то стихи, то жесты, то несколько ниток звёзд, играя ночь напролёт, Кручёных...
Его секунды так сверкающе-грозны! Он разрезает поток времени, как вставшая попёрек острая глыба.
То вдруг обидится, как ребёнок.
Ночь, пустыня, запинающийся свет звёзд. Хлебников писал о нём:
Отрицательный двойник самого Велимира.
Они в разных концах России. Божество, создавшее их, ранит себя, стихи сочатся двумя потоками, смешиваясь с раздавленным стеклом секунд.
Звёзды умирают, чтобы, наконец, научить не бояться смерти.
Это Кручёных.
С подоконников, со звёзд — отовсюду льётся свет ночи.
Это Кручёных — а кто же ещё?
Я видел его беззубым, старым, в выцветшей тюбетейке, великим.
Вино превратилось в уксус, он разогревал его на огне, пил и говорил: „Велимир любил запах муравьиного спирта”.
Он сказал мне о моих стихах: „Я пишу такие же, но рву их”.
Когда он вдыхал воздух, воздух замирал на мгновение.
Он написал мне на подаренной книге: „Держитесь прозы!” Завтра же эти стены вновь станут каменными и неживыми.
Он мне рассказывал о своих выступлениях в «Стойле Пегаса» у Сергея Есенина: „Обычно чтецы-поэты подкупали официантов, чтобы те не гремели посудой во время их чтения. Я же никого не подкупал, я читал так, что никакой посуды и никакой сволочи слышно не было!”
Он осторожно коснулся своей старой груди (81 год!) и сказал: „Я лучше всех в Москве читаю стихи!”
Зудесник!
Были времена, когда оба создания Божества сходились для совместной работы, были соавторами.
Многим недоступен Кручёных: теперякам и нетеперякам, поэтам и непоэтам. Но главное, что его поэзию любили Хлебников, Маяковский, Пастернак, Хармс и Введенский.
Главное, что его поэзию люблю я.
У поэзии Кручёных вкус свежей, только что зарезанной вечности.
Он заболел, умер. Когда он лежал, умирающий, белые больничные занавески на окнах казались ему листами чистой бумаги.
Он промолвил, указывая взглядом на своих соседей по больничной палате: „Я здесь со всеми сроднился...”
О, эти слова умирающего Кручёных! Какое молчание наступило за ними.
В одной из ночных времябоен, то есть в подворотне, я столкнулся со странной фигурой. Женский голос спросил:
— Что это, час или минута?
Мне стало так странно, словно я оглох или, наоборот, впервые увидел свет. Я вымолвил:
— Теперь это уже ни то, ни другое... А что, это Мясницкая?
— Да. Вот дом, где жил Алексей Елисеевич Кручёных.
— Откуда вы про него знаете? Простите меня, я удивился, чтобы не окаменеть.
— Я была с ним знакома. Он часто приглашал меня к себе. Мы сидели рядом на его сундучке. Он ладонью гладил мне голову.
Это была Н. После она исчезла, а я исчез ещё раньше.
Моя первая встреча с Алексеем Кручёных произошла в июле 1966 года.
Его девизом было: выжить во что бы то ни стало!
И победил.
Делает усилие, чтобы вдохнуть в себя всю стену воздуха разом. Ночная стена.
Каменный угол неба, отшлифованный локтями и подоконниками. В своей каморке, набитой и заваленной книгами, Кручёных бесшумно сопровождал свою тень — грозный поэт.
Свет звёзд доставался ему даром. Он любил получать даром.
Ольга Розанова любила его.
| Персональная страница А.Е. Кручёных | ||
| карта сайта | 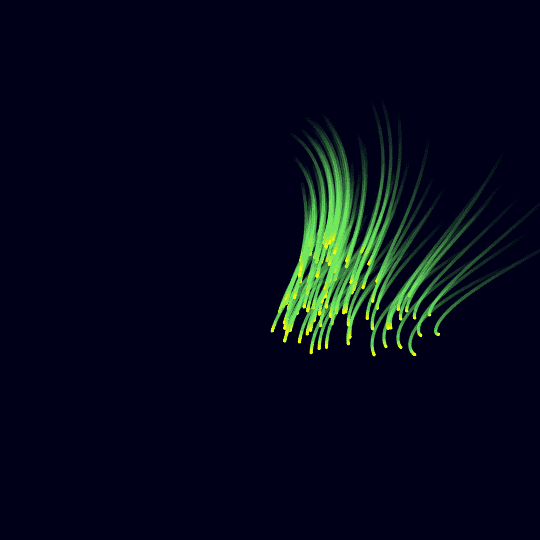 | главная страница |
| исследования | свидетельства | |
| сказания | устав | |
| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||