

Первым весенним рейсом, среди дотаивающих плывущих льдин, из Перми в Нижний Новгород шел камский пароход. Командиром этого парохода был Гавриил Серебренников, мой дед со стороны матери.
В 17-й день апреля 1884 года я родился в пароходской каюте деда — на Каме, меж Пермью и Сарапулом. Меня, новорожденного, мать, Евстолия Гаврииловна, увезла сейчас же домой — в центр Урала (40 верст от Теплой Горы) в поселок Боровское, где мой отец, Василий Филиппович, служил смотрителем золотых приисков.
Мать кончила пермскую гимназию, хорошо пела и рисовала.
Про отца говорили, что был энергичный, веселый и отличный охотник на медведей.
За час до смерти мать, больная, чахоточная, лежала на кровати и пела тюремную песню:
Окно так и не открыли.
Когда мать умерла, мне было три с половиной года.
Помню: отец пришел с охоты, принес рябчиков, на стол положил, а сам сел, задумался, гладил меня и спрашивал:
— Где наша мама, где?
И потом долго ходил по комнатам, молчал и вдруг целовал меня и старшую сестру Маню.
Осенью Маню увезли в Пермь учиться.
Зимой, через год после смерти матери, от сердечной болезни скончался мой отец.
Помню только: много народу было дома, и мне сказали, что отец крепко спит и надо разбудить его к чаю.
Я долго будил его — хлестал красной рубашкой. Не разбудил.
Дядя Костя, брат матери, на санях увез меня в Пермь.
Попал на воспитание в семью Трущовых. Это: тетка Александра, сестра матери, и ее муж, Григорий Семенович, который управлял крупным буксирным пароходством Любимова в Перми.
У Трущовых были дети.
Семья жила в особняке, на готовой квартире, около пристани, на берегу Камы, на окраинной заимке.
Это был двухэтажный деревянный дом, а вокруг него — огромное место — гора с елками, пихтами, тополями, огородом, конюшнями, сараями и дивным ключом, который бил из горы в огромный чан, стоящий в избушке.
Верхний этаж дома занимали Трущовы, внизу жили матросы, кучер, садовник Никитич и матерьяльный — приказчик.
На эту пристань, в дом к Трущовым, меня привезли на жизнь.
С золотых приисков уральских гор Качканара и Теплой, из лесов кедровых, медвежьих меня привезли на берег Камы, к пароходам.
Новая семья, новые люди.
Все смутно и все удивительно.
У тети Саши кто-то рождается еще и кто-то умирает.
Дядя Григорий, строгий, суровый, кашляющий, никогда не смеется, не играет с детьми, не велит нам шалить; матросы его боятся, он всем распоряжается, его страшно слушать.
В доме — няня, кухарка. С этими легче, проще, не боязно жить.
Уйдет дядя Григорий на службу, в свою товарную контору на пристань, и весь притихший дом оживает, радуется.
О, тогда мы, ребята, целый день болтаемся по двору, по горе, затеваем бесконечные игры.
Или возимся около ключевого чана, где в особом садке живут, плавают посаженные туда стерляди, язи, лещи, налимы.
Или торчим около матросов: слушаем разные чудесные рассказы о пароходской жизни.
Или торчим возле рыжего садовника Никитича, смотрим: он иконы делает, рамки из золотой бумаги, огурцы поливает, куриц кормит, табак нюхает.
Или вечером, перед сном, слушаем, как старая нянюшка про чертей, водяных, домовых, банных сказки рассказывает. Жутко и приятно.
Много и густо вокруг интересного: на берегу татары-пильщики дрова пилят и непонятные тягучие песни поют; на пристани грузчики ящики носят, на тачках товар катают; пароходы бегают, свистят, к пристани пристают; плоты лезут на берег; лодки снуют.
И такое всякое кругом происходит, что и понять не поймешь.
Быстрые, сияющие дни взлетели над жизнью, будто чайки над Камой.
Каждое утро появлялось новое солнце, и хотелось узнать, откуда их столько берется.
Няня говорила, что этим занимается бог и что вообще все делает именно он.
А я думал: ну и работы у бога — сплошной ужас.
Нет, я бы не согласился быть богом: это хуже, чем на буксирной пристани, где дни и ночи возятся люди с товарами.
Но все-таки превосходно, что бог делает яблоки и арбузы. Этой работой я был очень доволен.
И перед сном с радостью молился:
— Господи, пошли еще яблоков и арбузов и еще что-нибудь сладкое, хоть с полфунта.
По ночам гулко гремели тяжелые цепи, бухали в Каму чугунные громадные якоря, густо шлепали пароходные колеса, шипел пар машинный.
И сквозь этот грузный шум, поверх происходящего, будто птицы полуночные, перекликались в рупоры водоливы с барж и капитан.
Проснешься в этот поздний час, распахнешь окно и стынешь сонными глазами в удивленьи: по огням на мачтах видно — снизу пришел с пятью баржами буксирный любимовский пароход, и вот пристает караван к мосткам нашей товарной пристани.
Скорчившись под детским одеялом, думаешь: „Как это они там — в ночной воде — разбираются, устраивают столь важные дела? Совершенно непонятно”.
И вот снится беспокойный сон: будто я сам — капитан и вот привел к нижней пристани множество баржей и все их так перепутал во тьме, что душа леденеет от ужаса и я, умирая на капитанском мостике, только шепчу: „Спасите, спасите”.
От боли и страха вскочишь чуть свет, облегченно улыбнешься тревожному сну и сразу опять глаза в окно.
Очарованье!
Кама — в полном утреннем затуманенном спокойствии, и, как лебедь на озере, красуется перед окнами белый, гордый пароход, стоящий на якоре, а у пристани — пять большущих барж.
И кругом тишина нежная, ровно это — виденье. Даже слышно, как за Камой птички свистят, как рыба всплескивает на заре, а в тумане чернеются рыбачьи лодки.
Смотрю в одно место, знаю: там, у закамского берега, с лодки удит знаменитый рыбак Шатров — всеобщий любимец, ибо всем на изумленье выуживает крупную рыбу: язей, лещей, подустов, окуней.
Да он и сам слюнявыми губами походит на выуженного подуста.
Золотым апельсином солнце выкатилось над лесом.
И в этот час — точно в шесть утра — басисто-протяжно заревели гудки Мотовилихинского пушечного завода, к ним разом присоединились чугунолитейные и судостроительные заводы Каменских, Любимова, фабрика Алафузова и всякие иные.
Пестрая музыка призывных, будящих гудков долго, настойчиво разливалась по проснувшейся Каме.
И вдруг развороченным муравейником зашевелилась наша буксирная пристань.
Проскрипели громадные железные двери пяти каменных лабазов.
Словно ветром, срывались брезенты с длинных рядов ящиков и бочек, лежащих под открытым небом.
С фырканьем, ржаньем потянулась к этим рядам бесконечная вереница ломовых лошадей с телегами, чтобы увезти клади в город.
Грузчики, в широких штанах, в лаптях, длинных рубахах с расстегнутыми воротами, возили на тачках товар с баржей в лабазы или носили на спине, на “подушках”.
Пристанские мостки стонали под тяжестью груза.
Изо дня в день, из ночи в ночь, как из года в год, буксирная любимовская пристань жила своей грузовой, товарной жизнью; и иной жизни не видел, не знал я.
Приходили пароходы с баржами и уходили.
Прибегали пароходы пассажирские, выгружаться или нагружаться, и убегали.
Грузчики-крючники носились по пристани с тачками, ломовые матерщинно ухали на лошадей со стопудовыми возами, суетились матросы, приказчики-матерьяльные, толпился народ около конторы, пригоняли арестантов на работу.
Здесь, на пристани, болтаясь целые дни, учился я стремительно познавать жизнь и труд людского муравейника.
До жгучей страстности полюбил эту гущу пристанских впечатлений; и мне попеременно хотелось быть то крючником, то матросом, то водоливом, то капитаном.
Только — не арестантом.
Ибо Кама дышала широкой вольностью и звала, сердешная, в дороги дальние, в края неведомые.
Туда и смотрели глаза из окна.
Осенью меня, сироту семилетнего, тетя Саша повела в церковную школу при Слудской церкви.
Усадили за парту — эта штука очень понравилась устройством и тем, что от нее пахло свежей краской; и вообще удивил особенный школьный воздух.
Во время молебна оглядывал стены: всюду картины Ветхого и Нового завета, а на передней стене — царские портреты.
После молебна, когда приложились ко кресту и каждого окропили святой водой, священник, батюшка, рассказал, что надо начинать учиться, что надо молиться богу за царя, за отечество, за родителей и всех их очень слушать, повиноваться, бояться.
Подумал: „У меня же нет родителей”.
Нам каждому батюшка выдал по сухой просфоре, мы поцеловали ему руки, и нас отпустили домой.
На следующий день нас выучили четырем буквам: аз, буки, веди, глаголь.
Сначала не понимал, почему веди да аз получается “ва”, по-моему выходило “ведиаз”.
И что это такое “ведиаз”, не разумел.
В дальнейшем стал разбираться лучше, но веселили слова: зело, паки, мыслете, буки.
Мыслете да аз и еще мыслете да аз — получалось “мама”.
Вот это штука.
Очень удивительно!
Тем более, что мы начали учиться по-славянски и первой нашей книгой был часослов.
Мы учили наизусть молитвы и потом их все пели, и учили закон божий, и писать, считать.
По воскресеньям и в праздники нас водили в церковь, мы соблюдали посты.
Играть, шалить в церковной ограде во время перемены не давали.
Шалунов, ротозеев в школе ставили в угол, лицом к стене, оставляли без обеда, то есть задерживали на два-три часа.
Дома ругали, теребили за уши, за волосы, если тетю Сашу вызывали в школу и говорили ей о моем нерадении к закону божию.
Церковная жизнь мне не нравилась.
Школа сразу опротивела.
Стало смертельно скучно учиться при церкви и петь молитвы.
Через два года меня определили в другую, городскую школу, что находилась на базаре.
Там было интереснее: больше ребят, больше книг, больше шалостей, а сторож Николай, унтер-офицер, обучал гимнастике.
Из школьных окон было хорошо видно, как торгуют на базаре, как ловят жуликов, как бегает городовой и свистит.
Но и здесь, в городской, ставили в угол, давали по морде, драли за уши, оставляли без обеда и часто пели «Боже, царя храни» и еще «Спаси, господи, люди твоя».
Учителя — сплошь сердитые — того и гляди загрызут, как цепные собаки, за любую маленькую провинность или неуспешность.
В школу ходить страшно, душа замирает от испуга, когда урок начинается: вдруг да спросят такое, чего не знаешь.
А учителя обязательно спрашивали такое, чего не знаешь.
— Давай дневник, идиот, — рычит учитель и ставит жирную двойку с минусом.
Дома за эту двойку лупят два полных дня и полдня — за минус.
Или вдруг в школу торжественно приезжает архиерей, важно обходит (и все учителя за ним на цыпочках) классы и спрашивает нас по закону божию, а мы, несчастные, в общем ужасе.
Ибо ежели кое-что и знаешь, то тут, глядя на архиерея и всех учителей, забудешь даже, как тебя зовут, а не только какого-нибудь Навухудоносора.
Раз архиерей меня спросил:
— За что господь бог изгнал из рая Адама и Еву?
За что? Я ответил, моргая:
— А за то, что Адам и Ева в раю без позволенья съели все яблоки.
Владыко улыбнулся, все захохотали.
А меня, грешного, потом чуть не вышибли коленом из школы.
Во всяком случае, натеребили уши, и до вечера я стоял на коленях в углу, проклиная рай, Адама и Еву, яблоки и преосвященного.
Дома, само собой, меня здорово выдрали.
Словом, на другой день я прекрасно знал, за что именно изгнали Адама и Еву из рая.
Жизнь делилась на две части: на лето и зиму.
Летом мы ждали зиму, а зимой — лето.
Я любил то и другое, и вообще все любил, что видел, слышал, ощущал, понимал и не понимал.
Первый пушистый снег, первые заморозки, застывающая у берегов Кама, затихающая пристань, короткие дни, длинные ночи, теплая одежда, оладьи перед школой, снежные тропинки, легкий тормошащий воздух — все наполняло радостным ожиданьем настоящей зимы.
А зимой, когда глубокий снег белым толстым одеялом укрывал землю и Каму, когда действительно приходила и владычествовала зима, мы, поспешно вернувшись из школ, катались на лыжах, коньках, санках, делали ледяные горы-катушки, поливали, мерзли, отогревались и снова бежали к сугробам до темноты, а потом дома лениво учили уроки.
Ждали рождества, потому что ждали денег на всяческие наши расходы, а приход давало только рождество.
Обычаем было ходить детям по домам родственников, знакомых и незнакомых и славить Христа, то есть петь молитву «Христос рождается, славите», и за это получать серебро.
Славленых денег набиралось порядочно, так как много было родственников.
А потом — елки с подарками, гости-маскированные.
Эти маскированные производили особо яркое впечатление. Приезжали компании, разодетые в необыкновенные цветные костюмы, в колпаках, обязательно в масках с большими носами, и все отчаянно плясали, тряслись, хохотали.
Кто это были такие, неизвестно до жути, но забавно. Являлись и такие маскированные, что после их ухода исчезали две-три шубы.
Ходила также по домам “шайка разбойников”. Это бродячий театрик.
Если пускали в дом “шайку разбойников”, они, раскинув ручные декорации, разыгрывали с пеньем и плясками пьесу из жизни разбойников.
И за это брали два рубля, если с хозяйской выпивкой, а без выпивки — три рубля.
В крещенский сочельник девицы гадали. Наша нянюшка в этом деле принимала горячее участие, помогая девицам выискивать суженых-ряженых. Гаданье устраивалось всерьез, с волнениями загадочного трепета перед судьбой.
Все было окутано густой пеленой религии, обычаями старины, приметами, гаданьями, предсказаньями, наговорами, ворожбой, заклятьями, вещими снами.
Со страхом ощупывали мы свои кресты и глубоко залезали под одеяло с головой, укладываясь спать, под стон метели.
А утром смотришь — опять солнце, снег, зимняя тишина, по Каме возы тянутся.
И опять забывали про все.
А дальше — масленица.
Блины, оладьи.
Нас увозили в разубранной кошевке кататься на лошади по проспекту, где бесконечной лентой двигался весь город, многие на парах и тройках с бубенцами.
На масленице я впервые прикоснулся к искусству.
Надо сказать, что перед этим я никогда не бывал в театре.
А тут около базара, среди громадной толпы, увидел вновь отстроенный большой дощатый балаган с парусиновой крышей и вывеской:
На балконе балагана стояли размалеванные артисты и среди них — великан с усами.
Клоун в колпаке, в полосатом балахоне, с крупчаточным лицом и бельмом кричал:
— Эй, публика почтенная, торопитесь покупать билеты: сейчас начинается небывалое представление, или чудеса и разгадка тайн черной магии. Со всех по гривеннику, а у кого рыжая борода — двадцать копеек.
Публика гоготала.
А возле балагана продавали горячий сбитень из жестяных самоваров, сахарные плюшки, пряники, оладьи, блины, пирожки.
Я выпил стакан сбитня с плюшкой, купил билет и вошел под парусиновую крышу.
Шарманка с барабаном, мальчик-акробат в трико, девочка на трапеции, гармонист, плясун, дрессированная собака, великан с гирями, петрушка-кукла, лубок со вставными лицами и сам клоун Камбаров — все это невиданное зрелище в блестках и позументах изумило, очаровало, поразило.
Долго не мог оторваться от балаганного дива — вот какие восхитительные дела живут на этом свете!
Жить очень замечательно: ведь впереди могут встретиться новые чудеса.
И потому:
— Давай еще стакан сбитня и плюшку за три копейки.
А дальше тянулся бесконечный великий пост под тихий однотонный благовест Слудской церкви.
Весь пост дома кормили постной пищей, и только на базаре можно было тихонько пожевать на пятак колбасы.
На четвертой неделе поста заставляли говеть, ходить постоянно в церковь и читать молитву «Господи, владыко живота моего».
Самое страшное — исповедоваться попу во грехах: вдруг да узнает, что стащил у тетки с комода полтинник или в ученическом дневнике двойку переправил на четверку.
Причащаться — вот это удовольствие: дают запивать теплым красным вином и просфорку.
Но главное утешение — скоро пасха, весна, ледоход, пароходы, солнце, лето и не учиться.
О, на пасхе замечательно: заутреня, фейерверки, бенгальские огни, пальба, новые рубашки, штаны, куличи, сыр, под воротами качели, в бабки можно играть, кругом звон колокольный. Хочешь — лезь на колокольню.
Через Каму ходить нельзя: лед синий, водяной, вот-вот тронется.
Кругом ручьи, земля, птицы.
Буксирная пристань оттаяла и ждет грузчиков, товаров, пароходов, баржей и ждет нас, неизменных гостей.
Скоро, скоро!
Вода прибывает.
И вдруг неистовый крик:
— Кама тронулась! Смотрите!
Все бросаются к окнам: широкой полосой движется камский лед, перекашивая черные навозные дороги.
Наша любимовская заимка стояла на окраине слудской земли.
Под лесной крутой горой, на берегу, у самой буксирной пристани, мы жили так, что собственно Кама с плотами, мостками, лодками, баржами, пароходами и являла собой коренное поле бытия.
Мы, разумеется, знали, что за горой, за ее высокой спиной, живет город Пермь с длинными улицами, раскрашенными домами, деревянными тротуарами, уличными фонарями с керосиновыми лампами (электричества еще не было); живет город Пермь с важными церквами, пожарными каланчами, магазинами, булочными, извозчиками, нарядно одетыми людьми при зонтиках и тросточках — и все в шляпах; но мы-то жили иной, водяной жизнью и лишь изредка, как в гости, заглядывали в город.
О городе всё знали: какой там архиерей, какой губернатор, какой полицеймейстер, какие свадьбы бывают, чьи похороны, чьи крестины, чьи именины, кого ограбили, кого зарезали, где случились пожары.
Город будоражил.
О, в этом городе всегда происходило такое, о чем у нас на кухне целые дни говорили да охали.
Самым замечательным событием мы, дети, считали, когда вдруг умирал кто-нибудь из многочисленных родственников.
Тогда нас водили в город на панихиды, на похороны.
Мы торжествовали: покойник в цветах, попы в ризах, комнаты полны дыма от ладана, все родственники в сборе, тесно, взрослые плачут, а нам весело.
И уж совершенно интересно на кладбище: человека зарывают в землю — подумать только!
И потом поминальный обед: очень вкусно, обильно кормили рыбными пирогами, индюшками, киселями, кутьей.
Приблизительно так же великолепно было на именинах, хотя нас брали туда лишь днем.
Мы тогда носились по тротуарам возле именинного дома и с изумленьем заглядывали в окна соседских квартир. Вот, мол, как поживают в городе: на окнах — занавески, цветы, на стенах — фотографии в рамках и бумажные веера.
Но что творилось на свадьбах — уму непостижимо.
Даже нас, ребят, поили красным кагором; мы обжирались всяким всячеством, и нас тошнило.
Расфранченные гости пировали, хохотали, пели, орали, плясали.
Кавалеры, шафера ухаживали вдрызг за барышнями, целовались в темных углах, верещали, как сороки.
Часто все кричали: „Горько! Горько!”
И жених целовал невесту.
Бабушки пускались вприсядку.
Били посуду.
Потные, осовелые, гогочущие, поющие вытворяли всякие штуки.
В том числе какой-нибудь шутник рассыпал из табакерки нюхательный табак — и все отчаянно чихали.
И снова орали: „Горько! Горько!”
Даже дьякон на кухне (чтоб не видел батюшка) плясал барыню с какой-нибудь толстой свахой.
Помню, на одной из свадеб я получил истинное, до жути веселое удовольствие.
С уральских золотых приисков в Пермь приехал сыграть свадьбу наш любимец дядя Костя, работавший на приисках старателем.
В свадебную ночь этот дядя Костя так назюзюкался, что решил зарезать свою нареченную, а когда это ему не позволили, он с ножом убежал на сеновал и обещал зарезаться сам.
За дядей Костей бегали, ловили, наконец, поймали, отняли нож, и дядя Костя с горя уснул на сеновале один.
А утром опохмелялся, плакал, раскаивался в содеянном.
Мы, малыши, сияли в восторгах от дяди Кости, которого все ругали за дикость и пьянство.
Но милый дядя Костя был беспредельно щедр, широк, необуздан и очень любил меня.
Каждый приезд дядюшки с приисков являлся праздником. Каждый раз с ним происходили необычайные приключения: то он напьется до ужаса, то его обворуют, то он неизвестно куда скроется, то вдруг явится с подарками.
Третий день пасхи.
В зале на праздничном столе — куличи, крашеные яйца, шоколадный сыр, разные вина, закуски, поросенок, гусь.
Мы пришли от обедни.
Все меня поздравляют и дарят конфеты: сегодня мои именины, мне исполнилось двенадцать лет.
Кругом праздник: на Каме — первые пароходы, в небе — горячее солнце, во дворе — качели, и всюду разливается колокольный звон.
Появились гости — братишки, сестренки.
Для всех мы приготовили сюрприз: в дровяном сарае устроили цирк (перед этим готовились две недели).
В цирке висела трапеция, стояли гири и разные предметы для игры.
Все пошли в цирк.
Представленье началось французской борьбой.
Алеша вызвал на борьбу одного из гостей.
Схватка сразу приняла бешеный характер и быстро кончилась тем, что оба борца наскочили на столб, ударились несколько раз головами и порвали рубахи.
Борцов едва растащили; у каждого из них засветились волдыри на лбу.
Вторым номером, в качестве акробата, появился я — на трапеции.
Проделав несколько трюков, я начал “крутить мельницу” через голову, но так крутанул, что со всего размаху брякнулся головой об землю.
Публика заревела от ужаса.
Меня, несчастного именинника, долго обливали холодной водой, пока я вернулся с того света и подал признаки жизни.
Представленье кончилось.
К вечеру я отошел, оправился настолько, что предложил гостям дома выслушать несколько стихов собственного сочинения.
Приняв гордую позу, громко начал:
Взрослые домашние закричали:
— Ты врешь, врешь! Ты чай пьешь!
И не дали мне читать дальше.
Напрасно я силился объяснить, что это надо понимать особенно, что это — стихи.
Словом, сквозь слезы начал другое:
Ребятам это очень понравилось; но взрослые заявили, что эти стихи я украл, наверно, у Пушкина.
Тогда я решил никогда больше не читать своих стихов дома и, кстати, отказался пить чай и не пил очень долго.
Но стихи — назло взрослым — писал часто, упорно, много и прятал их в тайное место, хранил аккуратно.
А читал еще больше, запоем читал, и заучивал большие поэмы Пушкина, Лермонтова, Некрасова.
Каждый двугривенный нес на базар и там на толчке покупал разные книжки и давал читать матросам, точно записывая, кому какую книжку дал.
Особенно нравилось читать про разбойников. До сих пор помнятся три любимые: «Яшка Смертенский, или Пермские леса», «Васька Балабурда», «Маркиз-вампир».
Но когда нашел на базаре «Стеньку Разина», с ума спятил от восхищения, задыхался от приливающих восторгов, во снах понизовую вольницу видел, и с той поры все наши детские игры сводились — подряд несколько лет — к тому, что ребята выбирали меня атаманом Стенькой и я со своей шайкой плавал на лодках, на бревнах по Каме. Мы лазили, бегали по крышам огромных лабазов, скрывались в ящиках, в бочках, рыли в горах пещеры, влезали на вершины елок, пихт, свистели в четыре пальца, стреляли из самодельных самострелов, налетали на пристань, таскали орехи, конфеты, рожки, гвозди и все это добро делили в своих норах поровну. Вообще с игрой в Стеньку было много работы, а польза та, что мы набирались здоровья, ловкости, смелости, энергии, силы.
Я перестал писать плаксивые стихи о сиротской доле. Почуял иное. Например:
Эти стихи я сочинил на сеновале после того, как купил четверть фунта пороха, высыпал его в проверченную в косогоре дыру и взорвал.
Вот это было громкое удовольствие! Не знаю почему, но я по-настоящему, вдумчиво верил тому, о чем пелось в песнях.
Каждая песня, если она грустная, действовала на меня так проникающе, что все нутро наполнялось щемящими слезами.
Жадно прислушивался к прекрасным словам и моментально запоминал, как драгоценную правду о жизни, которой еще не знал, не изведал.
Однажды грузчики, сидя на ящиках во время ожиданья работы, пели:
Долгие месяцы эта песня была любимейшей, пока не услышал у тех же грузчиков:
Над этой песней я ревел — так замечательно ее пели грузчики.
И по совету грузчиков, матросов я добился того, что мне купили гармошку дома, и вот скоро заиграл, запел:
Много выучил песен и распевал на дворе матросам под гармошку.
Много, жадно читал, много писал стихов и прятал, затаив неодолимое желание стать когда-нибудь поэтом.
В школе читал наизусть заданные стихи лучше всех и легко, отлично писал школьные сочиненья, но никому никогда не говорил, что сочиняю свои стихи, ибо боялся насмешек, так как считал свои стихи плохими: ведь никто не учил меня и никто моей судьбой не интересовался.
Только и ждал: вот вырасту, стану умным, самостоятельным и тогда...
Ого! Тогда что-нибудь выйдет.
— Пойдемте к дяде Ване.
— Скорей, скорей!
Там, на Монастырской улице, недалеко от Слудской церкви, на солнечной стороне, его серенький домик.
Сразу можно узнать, где живет дядя Ваня Волков: за воротами, на улице куча ребят и куча гусей, над домом кружится большая стая белых голубей — тут он и живет.
Войдешь в калитку и видишь: дядя Ваня стоит на крыше сеновала и долгим махалом гоняет голубей.
Он — рыжий, лесной, птичий, рыбацкий, общий, жизнерадостный, удивительный человек. Вот он какой!
Для всех дядя Ваня — просто дядя Ваня, а для меня настоящий: он был другом моего отца и женился на сестре моей матери.
Дядя Ваня будто Робинзон Крузо: его двор — остров, и тут — козы, собаки, птицы, хозяйство, и все дядю Ваню любят.
Всю свою жизнь он отдал ребятам, голубям, дворику и Пермской железной дороге.
Придешь к нему в гости и первым делом лезешь на крышу; там сидят голубятники, покуривают, поглядывают на голубей.
Слышатся голубиные названия: бусый, палевый, чернохвостый, мохноногий, белогрудый, чумазый, красно-головый.
Дядя Ваня — самый популярный в Перми голубятник, и он же охотник, рыболов.
А каких канареек он держит — чудо: поют, как в раю, на разные лады и переливы.
Гоняет ли дядя Ваня голубей, или сидит на голубятне, или охотится на рябчиков, или рыбачит на Каме — всюду он истинный художник, поэт, обвеянный беспредельной любовью к природе и к своему мастерству.
Он даже и чай пьет как-то особенно: много, аппетитно, с шаньгами, и всякие веселые случайности рассказывает, подхохатывая на скользких местах.
И всегда у него в домике гостили всякие приезжие гости и тоже с ребятами.
Народу всегда полным-полно.
Да еще постоянно семинаристы приходили: Миша Ветлугин, Ляпустин, Плотников, Славнин и другие, ухаживали за дочерью Ниной и воспитанницей Марусей, моей родной сестрой; обе они были гимназистками и жили в передней половине дома, где пели канарейки, стояли на подоконниках цветы и в простенке висели громадные старинные часы с остановившимся временем. Из этой половины доносились звуки гитары и поющие голоса семинаристов, а иногда пылкое чтение «Евгения Онегина».
Словом, в домике дяди Вани кипела густая, многообразная жизнь, похожая на беспрерывный праздник.
Всех тянуло сюда, все шли очень просто, как в свой дом, и располагались как угодно; сам хозяин, собственно, был как бы ни при чем, ибо его занимали голуби, и, главное, дядя Ваня был выше всего окружающего, ибо всегда торчал на крыше и смотрел в небо на голубей.
Мое же дело у дяди Вани такое: упросить его поехать со мной и братишкой Алешей на лодке за Каму, на ночную рыбалку.
Ибо дома одних нас на ночевку не пускали.
О, какое это творилось будоражное счастье, когда чудесный дядя Ваня давал согласие!
Ведь он же заправский рыбак, учитель наш, а мы — робкие, но азартные ученики.
И вот, бывало, снарядим рыбачью лодку, уедем за Каму к вечеру, дядя Ваня найдет место, забьет ивовый заездок, опустит прикорм — пареный овес, смешанный с творогом и отрубями, — и на берег, чтобы к утренней заре рыба прикормилась.
И, уложив нас спать, приляжет сам; а чуть начнет светать, он засуетится, зашепчет, весь преобразится, заготовит удилища, и мы тихонько на лодке станем на заездок.
Начинается уженье.
Шепотом, движеньями, мимикой, глазами дядя Ваня рассказывает нам чарующую поэму рыбной ловли.
Заревая тишь, солнцевсход, аметистовые туманы над Камой, струистое пенье птиц в кустах, булькающие всплавы рыбы, водяные звуки, где-то со скрипом проплывающие плоты, гулкое хлопанье далеких пароходских колес, свистки, наша лодка и мы, как птенцы в гнезде, — и мы, рыбаки, среди этой сказки.
Кама блестит, будто маслом намазана.
И с нами дядя Ваня, в рыжей бороде которого золотится солнце, а в руках серебрится пойманная рыба.
Впрочем, и наши руки в серебряной чешуе от язенков и голавлей — это тем более замечательно, до головокружения.
Дядя Ваня неустанно учит, натаскивает, как ловчее ловить; и мы жадно слушаем, следим, учимся, горячимся.
И почти ревем, когда рыба срывается.
Но вот клев уменьшается, спадает, и мы едем восвояси.
А через неделю опять пристаем:
— Дядя Ваня, поедем на рыбалку в ночную.
И опять праздник.
Главным, незабываемым праздником для меня был день, когда дядя Ваня в первый раз взял меня на охоту за рябчиками.
Первая охота затмила, залила бурной радостью все вокруг — так бы и остаться в дивном лесу зачарованным.
О, с какой гордостью вернулся с охоты я, преисполненный сознанья, что, значит, вырос и теперь могу быть охотником, могу ходить в лес и стрелять, могу добывать пищу.
По-настоящему серьезно я возлюбил волшебницу Каму после того, когда тонул в ней шестой раз: едва из-под плотов вытащил меня за волосы рыбак.
Обсушиваясь у костра в качестве бывшего утопленника (чтобы об этом не узнали дома — ни-ни-ни, а то прощай рисковое рыбатство!), я призадумался и решил, что Кама — вещь непостижимо чудесная, таинственная, многорыбная, богатейшая великая река, которая не выносит шалостей, и, стало быть, надо глубоко уважать ее торжественное теченье.
Вот с этой поры всю силу любви отдал Каме и так горячо сдружился с ней, что дороже Камы ничего не было у меня на свете.
Как бурный приток, я втекал в ее воды, и это стало теченьем счастья.
Это наполнило берега моей жизни несказанным величием бодрости и слиянием с окружающим миром.
Да! Не знаю: быть может, я вырос настолько, что за спиной, как окрепший голубь, крылья почуял, но Кама вдруг вот воротами распахнулась, и тут понял я всю неисчерпаемую ее щедрость и призывающие объятья.
Это Кама — у ночного костра за чайником — рассказывала мне, начинающему смешному рыбаку, удивительную повесть о том, что Пушкин и Колумб, Гоголь и Эдиссон, Некрасов и Гарибальди в свое время были такими же, как я, мальчиками, но выросли, много учились, много знали, много работали, много боролись и вот сумели стать великими.
В те малые годы я достаточно знал об этих великих, с раскаленной жадностью упивался книгами, заучивал наизусть Пушкина, Лермонтова, Некрасова (до всех и до всего доходил своей головой, так как никто ничему меня не учил и никто ни капли мной не занимался), читал с удовольствием вслух матросам стихи, смешил всех своей будоражной энергией, нелепыми фантазиями, дикими, будто ветер шальной, порывами в неизвестность.
И, главное, никогда не обижался, если меня совершенно не понимали и моих изобретений не ценили.
За все свое детство и юность я не помню ни единого случая, чтобы меня за что-либо, хотя бы нечаянно, похвалили.
Я же изо всех сил старался для всех сделать, выдумать что-нибудь приятное, удивляющее, но увы...
Сиротство обрекло на полное одиночество.
Всегда я стоял, как отодвинутый стул, в стороне.
Однако это сиротское положение не мешало мне видеть с иного берега жизнь и быть затейником в веселых играх на широком дворе, на пристани, на раздольной Каме.
Ах, эта Кама!
Единственная, как солнце, любимая река, мою мать заменившая: она светила, грела, утешала, призывала, дарила, забавляла, катала, волновала, купала, учила.
И маленькому сыну своему обещала гуще прибавить крепких, здоровых, привольных дней, чтобы вырос он ядреным, толковым парнем.
Напролет всю ночь на пристани выла собака.
Говорили: не к добру это.
В эту ночь мы за Камой рыбачили.
Не везло: дул северный ветер, рыба не клевала.
Вернулись домой, слышим плач: больной дядя Гриша, мой воспитатель, умер.
Собрался народ, матросы, служащие пристани, все молча хлопочут; потом — священники, панихиды, ладан, слезы, похороны.
И как-то разом изменилась жизнь.
Со стороны одной — печаль: жалко дядю Гришу; а с другой — радость освобожденья...
Путь самостоятельности.
Юношеский возраст, ощущенье силы, выпирающая энергия, действующая воля, радужные переливы разума, большая начитанность — все это призывало отныне изменить жизнь так, как этого давно хотелось.
Кстати, хамские хозяева-миллионеры Любимовы за то, что дядя Гриша честно прослужил им с лишком тридцать лет, не только оставили семью Трущовых без средств, но предложили освободить дом: выметайся, и только.
Мне пришлось оставить дальнейшее ученье, и я поступил нужды ради на службу в главную бухгалтерию Пермской железной дороги.
Было нестерпимо больно расставаться с Камой, пристанью, пароходами, баржами, лодками, канатами, якорями, плотами, лабазами, товарами, горой, сеновалом, рыбами.
Никак не хотелось верить, что мы покидаем насиженный дом-гнездо, где бытовало прибрежное детство, где мы росли вместе с елками, пихтами, тополями, травой.
Где я тайно писал стихи, где мечтал у окна, взирая на камское раздолье, где с упоеньем читал последнее время Майн-Рида, Жюль Верна, Купера, Сервантеса, Пржевальского.
Где оставил друзей: матросов, грузчиков, водоливов, капитанов.
Где с горячей страстностью рыбачил.
Где ловил певчих птиц.
Где зимовал, летовал.
И вот все это — неисчислимое, незабываемое, неувядаемое, радостное и горестное — прощай!
Прощай навеки.
Пришла новая полоса жизни.
Мы переехали в город, мы теперь стали городскими, уличными, мелкоквартирными, обиженными, покрытыми пылью мостовых.
Некоторые сослуживцы стали меня звать Василием Васильевичем.
Я теперь стал личностью, почти взрослым человеком, к которому серьезно обращаются люди с бородами.
Мне отвели стол, бумаги, счеты; мне, как всем, 20-го платят жалованье.
Я стал ходить с бумагами по коридорам управления, чтобы брать нужные справки в разных отделах.
Словом, стал конторщиком, каких много.
Серую ученическую форму сменил на черную тужурку, старался казаться взрослым, серьезным.
В управлении дороги служили барышни, и я стал заглядываться на блондинок, знакомиться и краснеть при разговорах.
Из железнодорожной библиотеки брал книги, читал запоем.
Мечтал сделаться писателем.
Написал несколько рассказов из жизни маленьких, как я, сослуживцев.
В это время в Перми выходила газета «Пермский край», руководимая известным у нас социал-демократом В.Н. Трапезниковым, тогдашним фактическим редактором газеты.
И вот однажды с невероятным волнением и двумя рассказами я пришел в редакцию.
Меня встретили заботливо, рассказы не взяли, но предложили написать статью о каких-нибудь непорядках в учреждениях города.
Я обследовал большую народную столовую на базаре и написал.
Через день моя статья «В народной столовой» появилась в газете.
Я сиял краше солнца и без конца перечитывал свое произведенье в печатном виде.
Подписался: “Посетительский”.
И дальше давал разоблачительные статьи, но, по совету редакции, никому о сотрудничестве в «Пермском крае» не говорил.
Газета считалась крамольной, и меня могли выгнать со службы.
Мне очень нравилась моя роль таинственного шестнадцатилетнего журналиста.
На лето многие железнодорожники переселились на дачу, в деревню Васильевку около Перми; и я переехал туда же.
Здесь, на даче, близко познакомился с известными тогда в Перми политическими деятелями: П.А. Матвеевым, Засулич, Каменевым, Бусыгиным, Федоровой; все они служили тоже на железной дороге.
Мы организовали одну семью-коммуну, устроили общую столовку, стали издавать рукописную газету, основали в Васильевке театр, в котором я стал играть большие роли, так как перед этим всю зиму ходил на драму в Перми и присмотрелся к этому искусству.
Здесь же в деревне, в семье марксистов Матвеевых, происходили постоянные политические собранья, где меня и просветили по этой части.
Собравшиеся превосходно пели революционные и студенческие песни.
Все жили дружно, весело, энергично, и все умели по-детски радоваться на полянах на берегу Чусовой, у костров в лесу.
И, надо сказать, все были довольно плохими служаками, а я так просто умирал с тоски на службе — вот до чего скучно было.
Только на часы и поглядывал: когда, наконец, можно будет бежать домой — ведь там ждут недочитанные книги, недописанные статьи, стихи, рассказы.
О, я упорно готовился быть писателем.
Да только чуял, что не хватает знаний, опыта, наблюдений и, главное, путешествий.
И мне повезло: дали месячный отпуск и дали бесплатный билет Пермь — Севастополь и обратно.
О счастье!
Никуда до сих пор не выезжавший, я поехал, покатил, нет — полетел в Крым, из окна вагона жадно разглядывая пеструю панораму бесконечной России.
С первой станции повел дневник, насыщая страницы энтузиазмом путешественника.
И когда в Севастополе увидел море с Нахимовской горы, даже не поверил, что это в самом деле бывает так.
И море, и пароходы, и пассажиры, и бухта, и весь кругом Севастополь свели меня с ума; и я целые дни бродил помешанным, затуманенным, взбудораженным, натыкаясь на людей и на фонарные столбы.
Мысль о возвращении на службу пахла каторгой, но я к сроку медленно влез в вагон.
Вернулся в Пермь переродившимся, обновленным, за малое познавшим многое.
Сослуживцы накинулись на меня:
— Ну, как море? Севастополь?
Я прищелкивал языком:
— Очччень удивительно и даже невероятно. Это вам не бухгалтерия с ассигновками, черт бы их разодрал.
В это время меня с повышением перевели из главной бухгалтерии в службу движения, но от этого продвиженья прибавилось работы, и я окончательно затосковал, рискуя вывернуть челюсти от зевоты и уныния.
Всех спрашивал:
— Почему меня не гонят со службы — ведь это же безобразие?
Но меня, кажется, любили за веселый нрав и держали, кажется, ради веселья, ибо ничем иным и никому не был полезен на службе.
Одно благо: острил иной раз так удачно, что кругом только бороды тряслись от хохота.
Всем заявил:
— Ежели мне дадут еще одно повышение, я брошусь со слудской колокольни прямо на голову начальнику дороги.
В эту студеную зиму я совершенно бешено увлекся драматическим театром В.И. Никулина.
Театр стоил этого: артистический состав труппы был необычайно талантлив, и вся Пермь неистовствовала от восхищенья.
Театр лишил меня спокойствия и сна.
Театр со всем многочисленным ансамблем влез в мою впечатлительную грудь и там давал сплошные сумбурные представленья.
Театр стал мной, а я — театром.
Не отдавая отчета в своих действиях, я однажды тайно явился за кулисы к режиссеру и предложил свои услуги бесплатно в качестве последнего актера.
Мудрый режиссер Рудин, заложив руки в брюки, ответил резонно:
— Ну что ж, раз бесплатно — пожалуйста!
— Мерси. Когда?
— Приходите к началу завтра. Для первого выхода вы сыграете роль извозчика.
— Роль выигрышная?
— Да. Невыигрышные роли играют только плохие актеры, ххе-хе.
— Постараюсь понравиться.
Назавтра состоялся дебют.
Меня одели толстым извозчиком, загримировали, наклеили рыжую бороду, усы, брови и отослали кверху, на колосники, в мастерскую декоратора, пока не позовут на выход.
Я терпеливо ждал часа два-три, страшно вспотел, устал — и вдруг кругом стали тушить электричество. Я бросился в темноте вниз, путаясь в длинном извозчичьем одеянье.
Какой-то встречный театральный рабочий меня испугался:
— Фу, черт! Что ты тут делаешь?
Объяснились.
Оказалось: спектакль кончился, а про меня забыли.
Парикмахер по дороге, уходя домой, с остервенением сорвал с меня усы-бороду так, что неделю из глаз сыпались искры, как ночью из паровозной трубы.
Но я не унывал, ибо это было искусство и, значит, надо уметь страдать до конца.
Об этих мученьях читал и слышал.
Готовился и дальше к сладостным истязаньям во славу искусства: это ведь не служба на железной дороге.
Другие выходы были удачнее, а раз даже отличился: в роли рабочего я сыграл на гармошке так, что публика зашлепала в ладоши, режиссер пожал руку:
— Браво! Вы-таки зачерпнули успех.
Решил серьезно отдаться театру.
К изумленью сослуживцев отказался от службы, так как не мог связать искусство с железной дорогой.
По случаю увольнения мне не поднесли адреса “за усердие по службе”, но товарищи искренне сожалели:
— Ей-богу, Вася, пропадешь с театром.
Но я принял бесповоротное решенье.
Увлекала давнишняя мысль таким способом увидеть разные города, узнать жизнь людей, испытать себя в скитаниях.
Под покровительством артиста Помпы-Лирского из труппы Никулина весной отправился в Москву на обычный актерский съезд при театральном бюро, предварительно вручив — взаймы без отдачи — все сбережения, полученные из пенсионной кассы, 350 рублей, в благодарные руки Помпы-Лирского.
Как только прибыли в Москву, я уцепился за Помпу-Лирского, не отставал от него ни на шаг, вместе мы с ним и на квартире поселились.
Еще бы! Москва громаднейшая, густая, домов, улиц, народищу, магазинов полно — знай пошевеливайся, смотри в оба да не заблудись.
А как вечером на Тверскую вышли — ослепили электрические фонари, даже страшно стало после керосиновой Перми.
Страшно и празднично.
Что-то будет вообще?
В ушах звенел таинственный шепот бывших сослуживцев:
— Пропадешь, Вася.
Но я крепился.
Купил новый костюм кирпичного цвета, по случаю за три рубля сюртук, две сорочки, два галстука и штиблеты.
Приодевшись франтом, появился наконец в зале театрального бюро среди бритых лиц и пестрых дам в большущих с перьями шляпах.
Помпа-Лирский, высокий и худой как жердь, всюду носился, здоровался, целовался, хлопал всех по плечам — тут я окончательно поверил в его всемогущую силу.
И действительно, при его помощи я вступил членом в театральное бюро под псевдонимом Васильковский, чтобы вышло — Василий Васильевич Васильковский.
Помпа-Лирский щедро знакомил меня с актерами, актрисами.
Он показывал мне разных знаменитостей и обязательно добавлял:
— Но я играю не хуже.
Я верил, ибо верил всему на свете.
Жизнь, как говорится, улыбалась.
Помпа-Лирский устроил меня на зимний сезон к Леонову в Тамбов на вторые роли, а на лето предложил служить у него в товариществе на марках.
Я не понимал ясно, что это за марки такие, однако рыцарски согласился.
Мы, артисты, человек двадцать, выехали во главе с Помпой-Лирским в Новозыбков Черниговской губернии.
Имя актера Васильковского появилось на афишах — я возгордился.
Заказал визитные карточки, ходил в убийственном рыжем костюме или в сюртуке, гулял на публике.
Играл хорошие роли и был вроде управляющего: составлял афиши, программы.
Брал разрешенья у исправника.
Сначала дела шли гладко.
Летний театр в саду слегка наполнялся.
Актеры Цветков, Травин, Юматов, Гурко, Качурин, Помпа-Лирский, я — Васильковский — пользовались успехом.
А как пошли дожди, все провалилось. Никаких марок не стало — делить нечего и есть-пить нечего.
Начались скандалы.
Целый день — солнце, а как вечер перед спектаклем — проливной дождь.
В один из таких дождливых вечеров перед собравшейся в небольшом количестве публикой мы, все артисты, уже загримированные, залезли в оркестр, схватили кому какие попались инструменты и под дирижерством Помпы-Лирского стали играть марш.
Воистину это было торжество какофонии — с горя да с досады.
Я бил сумасшедше в барабан. Публика спрашивала:
— Ну, и что это значит?
Потом труппа разделилась на две части, и одна, верная Помпе-Лирскому, к которой принадлежал и я, решила ехать в Клинцы и Стародуб.
Перед отъездом мы, обе части, учинили драку из-за театрального имущества и стали лупить друг друга корневищами подсолнечников (с землей выдергивали в огородах) по башкам.
Помпа-Лирский вскочил на извозчика и, размахивая палкой, обратился к публике вокруг:
— Православные христиане!
Речь успеха не имела.
Помпа-Лирский забыл, что нас окружало еврейское население.
Всех посадили в участок в одну кутузку, на нары. Тут мы примирились.
В Клинцах и Стародубе дела поправились.
Следует отдать справедливость неутомимой энергии, таланту, изворотам и изобретательности Помпы-Лирского.
Он, увлеченный масленичными, народными, бенгальскими постановками знаменитого Лентовского, ставил какие-то невероятные спектакли с массой действующих лиц так, что каждый из нас играл по пяти ролей, превращаясь из нищего в барона, из барона в слугу, из слуги в банкира, из банкира в начальника полиции, и наоборот.
На афише так и печаталось: „В пьесе — 77 трансформаций, 21 выстрел, восемь убийств, четыре ограбленья, два пожара, локомотив, пароход, пляска, пенье, апофеоз”.
Из пьес запомнились: «30 лет жизни страшного игрока» «Граф Монтекристо, или Кровавая башня» «Убийство на почте», «Притон четырех принцев».
Помпа-Лирский не скрывал от нас, что из трех пьес делал одну и при этом сочинял сам, подобно Шекспиру.
Играл он прекрасно, разнообразно, убедительно, и даже очень; я был в сплошном восторге от столь неслыханной фигуры.
С ним и голодать весело, ибо не хлебом единым жив человек.
На зимний сезон я уехал служить в антрепризу Леонова в Тамбов.
Из тамбовского театра меня однажды чуть не выгнали, но ограничились тем, что оштрафовали.
В то время началась война России с Японией, и театр поставил какую-то патриотическую пьесу из военной жизни.
Мне дали роль солдата, который, умирая на поле сраженья, должен в конце монолога открыть грудь и, указывая на медальон, сказать, сестре милосердия:
— Посмотри-ка, сестрица.
И умереть на руках сестры.
Трагизм этих слов заключался в том, что в медальоне был портрет этой самой сестры, приходившейся невестой солдату.
Дело шло под занавес третьего акта.
На сцене — отчаянный бой.
Я тяжело ранен и умираю, и прекрасно говорю свой монолог смерти, но, когда дошло до последних слов, я громко крикнул в последний раз:
— Постерика, смотрица!
Публика и все актеры разразились хохотом.
Занавес опустился на мою несчастную голову вместе с ругательствами режиссера и антрепренера.
Моя актерская карьера пошатнулась.
Но я особенно не горевал, так как никогда не собирался быть трагиком.
Мне это было не к лицу. Ясно?
Сезон в Тамбове кончился, так же как и всюду, с последними днями масленицы.
Расейская актерия двинулась в Москву.
И вот снова биржа театрального бюро.
Снова переговоры, контракты, авансы, надежды на летние дела.
Опять актерские обеды в съестных лавках, в трактирах с органами и канарейками, а после получки аванса — в чистом ресторане с пальмами, с оркестром.
В ресторанах ставили магарыч.
Всюду на языках именитые антрепренеры: Медведев, Корш, Сабуров, Суворин, Струйский, Никулин, Арнольдов, Амираго, Валентинов, Леонов, Долин, Дарьялова, Филипповский, Собольщиков-Самарин.
Надо было краем уха уловить, кто куда набирает труппу.
И я уловил: Дарьялова взяла Севастополь.
Разволновался: так чертовски потянуло снова в Севастополь.
Чардынин помог, устроил.
К апрелю все мы, дарьяловские, съехались в Севастополь.
Весенний солнечный город, небесного покроя море, горы, корабли, бухта, базар с кофейнями, театр на приморском бульваре — все это снова захватило, влилось в душу шелестящей радостью.
Ждал чего-то необыкновенного.
Поразило: в нашей труппе оказался внук Гоголя, актер Яновский, который совершенно равнодушно относился к своему великому деду.
Я говорил ему:
— Подумайте, ведь ваш дедушка был Гоголем.
Яновский холодно отвечал:
— Ну так что ж?
Казалось, если б мне пришлось быть внуком Гоголя, я умер бы от счастья, а Яновский не умирал.
На несколько спектаклей наш театр поехал на пароходе в Ялту.
Я чуть не выпрыгнул с парохода от восторгов путешествия.
А тут, в Ялте, навалилось целое чудо: к нам на спектакль явился Антон Чехов.
В первый раз в жизни я увидел наконед-то настоящего, живого, знаменитого писателя, да еще любимого Чехова.
Театр играл какую-то комедию.
Я исполнял маленькую роль гимназиста и перед каждым выходом растирал живот от волнения.
Впрочем, волновались все, так как всем хотелось понравиться Чехову.
Во время всего спектакля я неотступно смотрел из-за кулис в дырочку: Чехов в светлом пиджаке, со шляпой на коленях сидел в первом ряду.
А возле него — какой-то бритый человек (говорили, будто актер из Художественного театра), и этот бритый все время лез к Чехову в ухо и что-то шептал.
И видно было, что Чехову надоел этот бритый своей навязчивостью.
Думал я: и чего этот дурак пристает, шепчется, мешает, так бы и дал по загривку.
И до сих пор эта досада живет: бывают такие противные личности — не скоро их, окаянных, забудешь.
Ну, черт с ним, с бритым.
Важно другое: я видел, как смеялся Чехов, хлопал в ладоши и платком вытирал глаза под пенсне.
Скоро мы вернулись в Севастополь.
Дела пошли скверно.
Однажды среди многочисленной публики в ложе гимназисток я заметил одну такую неземную, что сразу — никогда не знавший любви — нестерпимо влюбился.
С этого вечера я ждал ее в театр, ходил по улицам, мечтая встретить, бродил около гимназии, писал стихи, страдал, не спал ночей.
И если встречал и видел — лишался ума от сердечного томления первой любви.
Узнал, что зовут ее Наташа Гольденберг.
Узнал, где она живет.
И дом ее чудился дворцом сокровищ.
При встречах Наташа так ослепительно улыбалась, что ноги мои подкашивались и голова заполнялась пьяным туманом.
Но познакомиться не смел, нет, и только таял, как снег весной.
И тогда начал писать большую повесть о Наташе, о любви первоцветной, тайной, невысказанной, неясной, но покоряющей.
Любовь затмила и театр, и море, и весь мир.
Даже начавшийся вследствие дурных дел в театре голод был незаметен: из-за любви я давно потерял аппетит, вполне насыщаясь неизведанными чувствами и повестью о любимой Наташе.
Труппа расползлась, разъехалась кто куда, а я остался страдать в Севастополе, без копейки.
Но с богатым от любви сердцем.
Однако немедленный заработок стал необходимостью.
Сидя на камнях у моря, влюбленный, голодный, одинокий, в лепете приливающих волн опять услышал голос пермских железнодорожников:
— Пропадешь, Вася!
Пропаду?
Ого! Подождите!
Разве решенье строить жизнь теперь не стало тверже, острее?
Стало. Чую.
Бросился в гавань наниматься грузчиком, носильщиком, рабочим.
Кинулся в торговое пароходство проситься в матросы.
Сбегал в Балаклаву к рыбакам: не возьмут ли в подручные?
Ничего не вышло.
В книжном магазине приклеил объявление: приезжий репетитор ищет уроков.
В музыкальном магазине вывесил записку: учу играть на русской гармонике.
Вышло.
Получил два урока по русскому языку.
И получил третий урок — учить сына капитана торгового пароходства играть на гармошке.
После актерской голодовки ожил, повеселел, поправился и даже прифрантился.
И так широко разошелся, что на четырех страницах писчей бумаги написал Наташе любовное неземное письмо, полное земных желаний познакомиться ближе.
Однако ничего Наташа не ответила и с испуга неделю не появлялась на улице.
Эту неделю я не спал: бродил по ночам около ее дома и горько раскаивался в своем письменном порыве.
Понял: разве актер Васильковский мог рассчитывать на знакомство с благородной девушкой?
О фантазер в рыжем пальто!
О влюбленный в испанской черной шляпе! Неизвестный из оперы бытия!
Белобрысый юноша с Камы, кудрявый обитатель буксирной пристани, кому я нужен, черт возьми, когда любой мичман на приморском бульваре в тысячу раз ценнее меня, неведомого бродяги, в глазах высшего общества!
Все понял.
И перестал писать повесть о любви: не позволила гордость, ибо не считал себя хуже мичмана.
И теперь, когда встречал Наташу, горел от стыда, закусывал губы от обиды, держался дальше в тени тоски и все-таки любил.
Не ждал ответа, но любил. Зря. Напрасно.
Из напрасности выручило неожиданное обстоятельство: капитан торгового парохода, сына которого учил играть на гармонике, предложил вместе с его сыном — и с гармошкой — прокатиться на рейс в Турцию — в Трапезунд и Константинополь.
Я заревел от радости: вот как повезло! Тяжкий груз безнадежной любви уплыл на корабле к босфорским берегам.
И когда оставили севастопольскую гавань, я с капитанского мостика долго смотрел в ту загадочную сторону, где жила недосягаемая, неприступная, как звезда, Наташа.
Прощай, любовь.
Жизнь ведет за руку к иным берегам, и я чувствую крепкое тепло этой руки. Что желать лучшего?
Когда вошли в Босфорский пролив и потом остановились в Константинополе-Стамбуле, жизнь развернулась легендой: все сказки померкли перед действительностью — таким в утреннем блеске предстал Стамбул. Гавань Золотой Рог с множеством пароходов разных флагов мира, сиянье полумесяцев неисчислимых мечетей, гул корабельной верфи, Мраморное море, пестрота громадных зданий, европейских и азиатских, знаменитая Ая-София, мечеть Солимана, султанские дворцы, яркоцветные базары, людское движенье, кровь турецких фесок, смесь иностранцев, роскошные магазины, ковры, шелк — вот что увидели мои восторженные глаза и услышали напряженные уши.
И опять музыка названий частей города:
Долма-Бахче, Бешикташ, Эйюб, Галата, Ильдиз-Киоск, Пера, Кадикиой, Серай.
И нравятся имена турчанок:
Рамзиэ, Чирибан, Саадэт.
Впрочем, все показалось чудом.
Даже настоящий турецкий кофе, прямо с углей медным ковшичком налитый в чашку.
Даже стамбульская брага — буза.
Даже выкрашенная борода нищего.
Право, так бы и остаться рисунком в общем ковре Константинополя.
Или просто затеряться в Золотом Роге матросом в мечтах о дальних плаваньях.
С этим обратился к нашему капитану, и он спокойно потрепал по плечу:
— Нет, милый юноша, лучше поедем домой. А быть матросом довольно трудно, и никакой поэзии в этом нет. Конечно, путешествовать по свету полезно и приятно, но при более счастливых обстоятельствах. Поверьте морскому волку.
Убаюканные зыбью и впечатлениями, мы вернулись в Севастополь.
О, каким сереньким, маленьким, тихоньким он показался!
И жалкой, нелепой показалась любовь к Наташе, но сердце при встречах вздрагивало, томило, жгло.
Обиженными, грустными глазами смотрел на Наташу и чувствовал, что это ей приносило боль печали.
В одной из базарных кофеен заметил долговязого беспокойного смешного юношу, который пил кофе и что-то писал, взглядывая на потолок.
Познакомились.
Это был Илюша Грицаев, служащий в портовой конторе, родом из Николаева.
Подружились.
Выяснилось: год тому назад Илюша убежал из Николаева от родителей; там у них бюро похоронных процессий, и надо было возиться с покойниками, помогать отцу — словом, жизнь скучная, и он утек.
А тут, в Севастополе, устроился в портовую контору; безнадежно, как я, влюбился, стал писать драму в четырех действиях и думать о прочитанных книгах.
Мы великолепно поняли друг друга, бродили по ночам, произносили стихи, вкушали дыни, виноград, говорили о возлюбленных, уходили в Балаклаву, в Георгиевский монастырь, к Байдарским воротам встречать восход солнца.
Щеголяли мечтаньями о будущем: Илюша готовился в драматурги, я — в поэты.
Однако к осени пришлось разлучиться: следствием моей переписки с антрепренерами было то, что я получил предложение от антрепренера Филипповского приехать в Кременчуг на зимний сезон.
И, главное, получил на дорогу аванс.
Кременчуг.
И вот он, гоголевский „Днепр при тихой погоде”.
А в общем, река небольшая, мелкая, неважнецкая река, и гоголевское восхваление вызывает улыбку: жаль, что Николай Васильевич не видел Камы.
Антрепренер Филипповский не в пример другим оказался превосходным человеком и пожелал, чтобы я начал сезон хорошей ролью.
Я постарался, и дело карьеры пошло: меня стали замечать.
Особенно хлопали гимназистки.
Жил у старых евреев и под постоянное пенье псалмов и моленье учил наизусть свои роли.
Спрашивал:
— Вам не мешаю?
Умный старик улыбался:
— Каждый делает свою голову.
Тут я призадумался.
Через каждые два-три дня я набивал себе голову разными неумными ролями из подозрительных пьес, и это занятие смущало.
Несмотря на возрастающие первые успехи, интересовала мысль: а не пора ли бросить театр?
Тем более актеры пьянствовали, играли в карты, возились с бабами, рассказывали гнусные анекдоты.
Тяготила эта пустяковая жизнь.
Мафусаил был прав:
— Каждый делает свою голову.
О сомненьях, раздумьях писал Илюше Грицаеву, и он советовал бросить сцену.
Илюша теперь снова вернулся в Николаев, в родительский дом, и начал писать вторую драму.
Мой друг звал, призывал к себе в гости, чтобы вместе решить о жизни впереди.
По окончании кременчугского сезона, на первой неделе великого поста, я приехал в Николаев и прямо с вокзала — в бюро похоронных процессий.
Следует сказать, что до этой поры мне никогда не доводилось бывать в подобных учреждениях и первые часы находился как бы в замешательстве: кругом гробы всяких размеров и качества, железные венки, кресты, украшения, туфли для покойников. Тут же и жила семья Грицаевых.
Меня прекрасно встретили жирным обедом, но непривычность обстановки отбила обычный аппетит.
Илюше хорошо: он тут родился и вырос, а у меня в памяти были только страшные рассказы нашей няни о гробах и покойниках.
Да и моя театральная профессия, веселая и беспечная, и моя жизнерадостная, восторженная натура ничего общего с гробовой обстановкой не имели. А тут...
Даже от борща попахивало усопшим телом.
Да еще Илюша шутил:
— Мы из покойников борщ варим. Ну и мясо, черт возьми, — пальцы обсасываем.
Я делал вид, что готов улыбаться остроумию, а сам все думал, где же мы будем спать, ибо приближалась ночь.
Илюша повел меня во флигель, где две комнаты были набиты до потолка гробами, а в третьей, возле стены, стояли один на другом дорогие гробы и на полу два открытых, из которых в одном лежало одеяло Илюши. И этот металлический гроб, по словам приятеля, стоил девяносто рублей.
А другой, дубовый, с золотыми украшениями, был оценен в сто двадцать пять рублей и предназначался к моим услугам в качестве очень удобной кровати, с готовыми стружками для мягкости и с коленкоровой подушкой.
Илюша объяснил, что спать в гробу чрезвычайно уютно и, главное, нам одним легко и бесконтрольно будет ложиться спать когда угодно.
А это так важно, что возражать не пришлось, и вообще было бы неделикатно возражать мне, гостю, против заранее приготовленных удобств и обоснованных доводов.
Что делать — я принес свое одеяло и положил в дубовый гроб, вполне оценивая искренние заботы бесстрашного приятеля.
Потом мы побежали осматривать Николаев, гуляли в саду, шагали по Соборной.
Это отвлекло, но, будучи впечатлительным с детства, я воспринимал Николаев сквозь туманный сумбур похоронной обстановки.
В конце концов мы вернулись во флигель, в склад гробов, на ночлег.
Илюша разделся, потушил свечку, спокойно лег в гроб и через минуту захрапел.
Я тоже разделся, но не сразу, а постепенно, с раздумьем, и не сразу лег, а сначала посидел в своем дубовом гробу, умял стружки, пощупал подушку, осторожно осмотрелся, прислушался и тогда только улегся, плотно укрывшись одеялом.
И действительно, на момент я почувствовал некоторый уют благодаря боковым стенкам гроба и даже подумал, что покойникам, очевидно, это очень нравится, если лежать смирно на спине, вытянув ноги.
Но через момент, когда я повернулся на бок и захотел скорчить по привычке ноги, это мне не удалось.
Гроб требовал протянуть ноги.
Протянул, но никак не спалось.
Думал о разных странностях и в том числе о своей судьбе: никогда не слыхал, чтобы живые люди спали в гробах, а вот мне пришлось.
В голову лезли нянины рассказы о покойниках, которые подымались из гробов и стучали челюстями.
Эти воспоминания гнал, но о другом не думалось.
Прислушивался к воистину гробовой тишине.
И вдруг — шорох, неприятный шорох...
Выглянул: там, под потолком, в самом верхнем гробу под крышкой что-то шевелилось...
Я не считал себя трусом (трус живым в гроб не ляжет) или одержимым паническими нервами, чтобы зря разбудить спящего друга.
Решил просто: это чудится, блазнит.
Выглянул еще раз: крышка гроба приподнималась и опускалась.
Ясно... У меня зашевелились на голове волосы — так это было ясно.
Тогда я сел в гробу и заорал:
— Илюша! Илюша!
Илюша вскочил, зажег свечу и хотел куда-то бежать, полагая, что в доме пожар.
Указывая на гроб под потолком, я шептал:
— Там кто-то есть, шевелится.
Илюша не верил:
— Черт там шевелится. Спи.
Я упросил посмотреть для успокоения. Илюша притащил ручную лесенку и полез, но едва приоткрыл крышку гроба, крикнул:
— Будь ты проклята!
Из гроба выскочила большая крыса и скрылась в комнатах.
Это нас вполне успокоило, и мы уснули. Мне снилось, что я живой лежу в могиле и стучу, безнадежно стучу, долго, слабо стучу в крышку, и никто меня не слышит.
Просыпался в поту с крупным сердцебиением и радовался, что жив.
Снова засыпал и страшное землетрясение видел во сне, а потом — всемирный потоп, как изображалось на картинах.
А утром все миновало, когда нас разбудили к чаю. Илюша с хохотом рассказывал о крысе, и все смеялись:
— Вот окаянная, в восьмидесятирублевый гроб залезла. Да чтоб ей сдохнуть сегодня же заодно с каким-нибудь генералом — тогда бы мы этот гроб скачали за сотню.
Старик Грицаев басил:
— Люблю, когда навернется богатый покойничек. Заказывают гроб цинковый, рублей за девяносто, да самолучший катафалк берут с четверкой лошадей в белых попонах, да с полдюжины факельщиков, да еще мраморный памятник через нас покупают, ограду железную ставят. Смотришь, полтыщи в кармане. Вот это любезное дело, ххе-хе.
Вообще у Грицаевых все разговоры велись вокруг покойников, гробов, катафалков, крестов, кладбищ, могил и будущих почивших в бозе.
Да, тут была такая своя похоронная жизнь, такие кладбищенские интересы по части наживы на скончавшихся, что я вполне понимал Илюшу, который удирал из дому и писал драму за драмой.
Понемногу я привыкал к этой оригинальной обстановке и, не желая даром хлебать борщ, стал помогать таскать гробы и снаряжать к выезду катафалки.
Старался...
Один раз меня послали ночью обмерить покойницу, чтобы подобрать подходящий гроб.
Когда стал прикидывать сантиметром, желтая покойница пошевелилась.
Я выскочил на улицу в холодном поту.
И потом долго ворочался в своем дубовом гробу и видел страшный сон: будто эта желтая покойница пришла обмерять меня, оскалив зубы.
Утром Илюша вовсю хохотал над моими снами, и я объяснил их няниными рассказами, внушенными мне с детства.
Но то, что хорошо объясняется днем, никак не объяснишь ночью.
Суть, разумеется, не в трусости, а в воспитании: нас с детства запугивали религией, наказаниями, сказками про всякую ночную чертовщину, про покойников да утопленников.
И теперь это отражалось в сновидениях и нередко наяву в ночные, глухие часы.
Да и непривычная обстановка делала свое беспокойное дело.
Я все это понимал отлично, даже свыкся со своим гробом, но тем не менее желал себе лучшей участи: ведь не для бюро похоронных процессий решил изменить жизнь.
И скоро дождался.
В Николаев на пасху приехала драматическая труппа во главе с Вс.Э. Мейерхольдом.
Побежал в театр проситься на службу, чтобы, получив заработок, уехать к берегам новых дней, подальше от гробов.
Мейерхольд — такой раскудрявый, с большим носом и широкими жестами — сразу принял и тут же вручил небольшую роль студента, который должен был читать на вечеринке стихи.
Дома, в складе гробов, я моментально выучил свою роль наизусть и явился утром на репетицию без тетрадки.
Когда все репетировали с тетрадками под режиссерством Мейерхольда и очередь дошла до меня, Всеволод Эмильевич строго крикнул:
— Эй, Васильковский, где ваша тетрадь?
Я гордо ответил:
— Все выучил наизусть и в тетрадке не нуждаюсь.
Мейерхольд блеснул веселыми зубами:
— Вот это здорово! Молодец!
А когда я согласно роли с пафосом начал читать стихи, остановил суфлер и заявил, что читаю не те стихи.
Я заявил:
— Могу прочесть и те, но они глупы, бездарны и не достойны передового студента.
Для доказательства прочитал и те, по пьесе. Мейерхольд согласился:
— Да, пакость. Но чьи же эти новые стихи?
Пришлось от смущенья наврать:
— Валерия Брюсова.
Сгоряча поверили.
А когда с успехом кончился спектакль, Мейерхольд мне сказал:
— Хорошо, но таких стихов Брюсова не помню.
Тут, краснея, сознался:
— Я сочинил сам.
Всеволод Эмильевич вдруг просиял, заинтересовался моей судьбой и, выслушав мое решение оставить сцену, энергично поддержал:
— Да, да, лучше оставить, лучше, интереснее заниматься литературой, лучше учиться, а провинциальный театр — болото, ерунда. Провинциальный театр отнимет все и ничего не даст.
За все время моих актерских скитаний Мейерхольд первый произвел крупное впечатление культурного, сведущего в делах искусства мастера с обаятельным темпераментом.
По скромности и по своему опыту я даже не предполагал, что режиссером может быть такой замечательный, работающий, как фонтан, человек.
Правда, его тогдашние постановки не отличались новизной, но все играли превосходно.
Театр грохотал от успеха.
И все-таки один раз произошло нечто необыкновенное.
Мейерхольд организовал вечер поэзии декадентов: Брюсова, Блока, Вяч. Иванова, Бальмонта, Сологуба, Кузмина, Андрея Белого.
Актеры читали стихи новых поэтов в черных одеяниях, среди черных сукон, при больших свечах, с аналоем посредине сцены.
Публике сие святотатство (намек на церковь!) не понравилось, а мистические стихи вызывали зевоту, сон, тоску. Никто ничего не понял. Но разговоры о затее остались.
Подходило лето, сезон доживал дни.
Однажды перед репетицией Мейерхольд обратился ко мне:
— У вас, Васильковский, кто-то умер?
— Никто.
— Да мы сами видели, как вы заходили в похоронное бюро.
Сквозь слезы стыда еле вымолвил:
— Это я в гости заходил.
Актеры хохотали:
— Ну и гости. Благодарим покорно. Да тут и мимо-то ходить страшно. Брось, Васильковский, этих гостей, пока они тебя не сцапали по-мертвецки.
С этой минуты я заходил домой, осторожно озираясь, не видят ли актеры.
Сезон кончился.
Я получил расчет сполна и с радостью навсегда распрощался с театром.
Актер Васильковский великолепно тихо в бозе почил, бесповоротно умер.
Театр и зрители от этой тяжелой утраты выиграли. Безусловно.
Теперь решил так: поеду домой, в Пермь, на Каму — там привольно бегают пароходы, там в густых лесах поют птицы, там осталось покинутое гнездо.
Туда и тянуло нестерпимо, чтобы на Каме собрать свои мысли, наблюдения, опыт скитаний, познанья людей и городов и там обдумать, как быть более полезным для живущих в бедности непроглядных будней.
Захотелось снова увидеть товарищей из «Пермского края», побывать опять в кружке Матвеевых, где жили интересами революционной подпольной работы.
Прежде мало знал жизнь, мало ценил общее дело борьбы, мало верил в свои силы — теперь, многое испытавший, перевидевший, выросший, прозревший, с неодолимым порывом рвался к иной были.

| Передвижная Выставка современного изобразительного искусства им. В.В. Каменского | ||
| карта сайта | 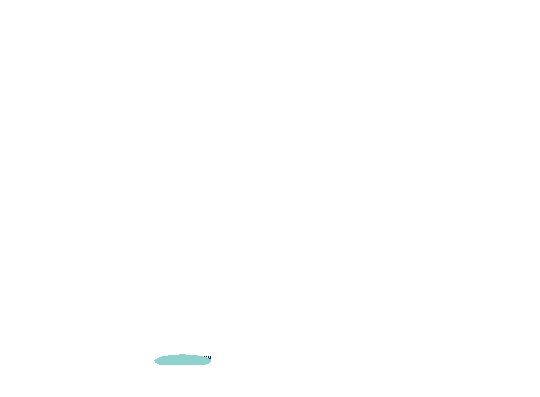 | главная страница |
| свидетельства | исследования | |
| сказания | устав | |
персональная страница В.В. Каменского | ||